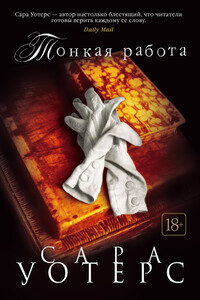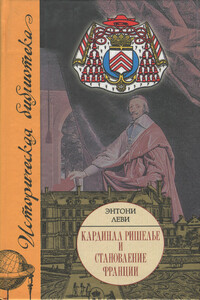Собственный голос казался мне очень громким. Я живо представила, как он разносится по всему тихому этажу, как узницы отрываются от работы, поднимают голову и прислушиваются – вероятно, презрительно усмехаясь.
Я повернулась к окну и указала на солнечные лучи, что столь ярко отражались от белого чепца девушки и кривоватой фетровой звезды у нее на рукаве.
– Любите греться на солнце? – спросила я.
– Надеюсь, мне можно и работать, и солнышком наслаждаться одновременно, – наконец-то отозвалась Доус. – Надеюсь, я вправе получить свою кроху тепла и света? Видит бог, как здесь не хватает этого!
Она выпалила это с такой горячностью, что я растерянно заморгала, на минуту смешавшись. Я огляделась вокруг. Белые стены теперь уже не слепили; пятно света, в котором сидела девушка, сокращалось прямо на глазах: в камере становилось все сумрачнее, все прохладнее. Ну да, солнце в своем неумолимом пути медленно уходило за башни Миллбанка. А узнице, безмолвной и бездвижной, что гномон, остается лишь наблюдать, как оно уходит из камеры, с каждым днем все раньше и раньше по мере течения очередного года. Должно быть, добрая половина тюрьмы с января по декабрь погружена во мрак, как обратная сторона луны.
От этой мысли мне стало еще более неловко стоять так вот перед Доус, продолжавшей тянуть нить из клубка пряжи. Я подошла к свернутой подвесной койке и положила на нее ладонь. Если я трогаю койку просто из любопытства, сказала девушка, то мне лучше обратить свой интерес на какие-нибудь другие вещи – миску, например, или кружку. Здесь положено держать постельные принадлежности аккуратно свернутыми, и ей не хотелось бы заново все сворачивать после моего ухода.
Я отдернула руку:
– Конечно-конечно. Извините.
Доус опустила глаза на свои деревянные спицы. Я спросила, над чем она трудится, и она равнодушно показала мне желтовато-серое вязанье:
– Чулки для солдат.
Выговор у Доус правильный. И когда она спотыкалась на каком-нибудь слове (а заминки в речи у нее случались, хотя и далеко не так часто, как у Эллен Пауэр или Кук), я даже слегка вздрагивала.
– Насколько я поняла, вы здесь уже год? – спросила я затем. – Знаете, вы можете отвлечься от работы, пока разговариваете со мной: мисс Хэксби разрешила. – (Доус опустила вязанье, но продолжала теребить пальцами пряжу.) – Значит, вы здесь уже год. И какой вам показалась жизнь в Миллбанке?
– Какой? – Девушка усмехнулась, отчего чуть скошенный рот скосился сильнее. – А какой бы она вам показалась, как полагаете?
Вопрос застал меня врасплох – он и сейчас, когда я о нем думаю, меня обескураживает! – и я на минуту замялась. Потом вспомнила наш с мисс Хэксби разговор и ответила, что здешняя жизнь, безусловно, показалась бы мне весьма тяжелой, но при этом я бы ясно сознавала, что справедливо наказана за дурной поступок. И наверное, даже радовалась бы возможности проводить столько времени в одиночестве, предаваясь раскаянию, строя планы на будущее.
– Планы?
– Как стать лучше.
Доус отвернулась к окну и ничего не сказала – и слава богу, ибо мои слова даже мне самой показались фальшивыми. Сзади из-под чепца выбивались бледно-золотые завитки – волосы у нее, подумала я, даже светлее, чем у Хелен, и наверняка выглядели бы очень красиво, если их тщательно вымыть и уложить. Солнечное пятно, в котором сидела девушка, вновь стало ярче, но продолжало неумолимо уползать прочь – так одеяло мало-помалу сползает с человека, спящего тревожным сном. Она подняла голову, подставляя лицо последнему теплому лучу.
– Не хотите немного поговорить со мной? – спросила я. – Возможно, это принесет вам некоторое утешение.
Доус молчала, пока полоска солнечного света не исчезла полностью. Потом повернулась ко мне, несколько долгих мгновений пристально на меня смотрела и наконец сказала, что не нуждается в моих утешениях. У нее и без меня «есть утешители». Да и вообще, с чего бы ей что-то мне рассказывать? Разве я стала бы рассказывать ей о своей жизни?
Она пыталась говорить твердым голосом, но безуспешно: голос предательски задрожал, выдавая в ней не дерзость, а обычную браваду, за которой крылось самое настоящее отчаяние. Скажи я тебе сейчас несколько ласковых, сочувственных слов, и ты расплачешься, подумала я. Но мне совсем не хотелось, чтобы она передо мной плакала, а потому я придала своему голосу беззаботную живость. Да, сказала я, есть вещи, которые мисс Хэксби возбранила мне обсуждать с заключенными; однако, насколько я поняла, моя скромная персона к оным не относится. Ради бога, я охотно расскажу про себя все, что ей интересно знать…