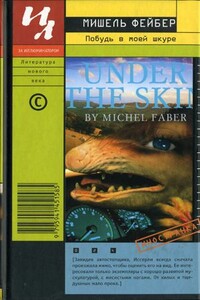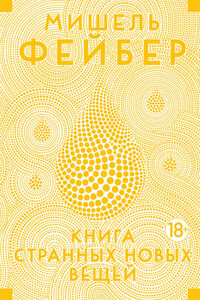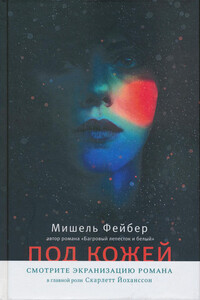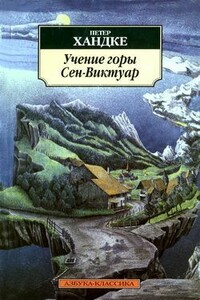Я откидываю голову, пытаясь разглядеть за этими яркими мобилями потолки. Улавливаю силуэты деревянных балок и стальных труб, призрачную декартову плоскость, которая подпирает прозрачную или, по меньшей мере, сквозистую крышу.
И получаю тычок в локоть.
— Потом наглядитесь, — говорит с оттенком легкой бранчливости старая нянька. Я иду дальше.
Пол, по которому мы ступаем, это разлив старого бетона, истертого до костяной гладкости и не издающего под моими ногами ни звука. Правда, тонкие резиновые подошвы провожающей меня в глубину дортуара старухи, повторяют, переступая: «вруник, вруник, вруник».
Я плетусь, опустив взгляд, мне не хочется видеть того, что хранится в этом огромном складском пространстве. Я ощущаю наставленное на меня созвездие глаз и чувствую, кажется мне, шелест массированного дыхания.
— Ваша постель вон там, вверху, — доносится до меня голос старухи. Приходится все же поднять глаза, посмотреть, куда указывает ее палец.
Вдоль стен возвышаются, как кипы только что пошитых матрасов, ярусы металлических коек, сюрреалистический конструктор с привинченными к кирпичу деталями. По двенадцати лежанок в каждой стопе и каждый отсек — точно гнездышко, свитое из белых простынь и одеял цвета овсянки. Некоторые койки пустуют, но таких совсем мало. Почти в каждом прямоугольном закуте покоится распростертое горизонтально человеческое тело — мужское, женское или детское, — точно ожидающие востребования письма. Совсем немногие лежат ко мне спинами, наполовину укрыв всклокоченные головы одеялами. Большинство же глядит на меня, бесстрастно помигивая, со всех высот и из всех углов этой залы.
Старая нянька указывает на пустующую койку, одиннадцатую от пола, добраться до нее можно лишь по железной лесенке, которая тянется вдоль спальной башни. Я неуверенно оглядываюсь на мою провожатую, гадая, хватит ли мне отваги сказать ей, что я боюсь высоты.
Она морщит в подобии улыбки сухие тонкие губы и уверенно тычет пальцем вверх.
— У нас тут никто не падает, — сообщает она. — Это же Прибежище.
И старуха, развернувшись, уходит: «вруник, вруник, вруник».
Я поднимаюсь по железному трапу к кровати. И по пути наверх сознаю, что за моим продвижением наблюдает многое множество людей — и не только издали, но и сблизи, с расстояния почти интимного, отделяющего меня от обитателей десяти коек, которые я миную, подвигаясь к своей. Лежащие наполовину во мраке, наполовину в столбах резкого света, они приподнимаются, опираясь на локти, или просто поворачивают головы на подушках, нацеливая мне в лицо пустые глазницы. Они разглядывают меня без стеснения, без милосердия, прочитывая, что успевают, из текста на моей футболке, оценивая мое тело, ползущее вверх в нескольких дюймах от их носов. И взгляды их лишены даже проблеска подлинного интереса. Я — событие, физическое явление, возникшее на ступеньках лестницы, привинченной к их койкам. Для того, чтобы меня игнорировать, требуется несколько больший интерес к чему-то другому, а другого ничего нет. Вот они и смотрят, безмолвные, вялые, глазными яблоками, а не глазами.
Мужчины, женщины, все они так и остались в майках, похожих на белые ночные рубахи. Я мельком улавливаю имена, и лета, и слово-другое из их историй, неуяснимое без прочих слов. Вся прочая их одежда — штаны, юбки, носки, даже обувь, — уложена под подушки, чтобы приподнять эти конверты тугого белого хлопка повыше.
Я добираюсь до одиннадцатой койки, заползаю в нее. Накрывшись простынкой и одеялом, стягиваю с себя все, кроме майки, и укладываю под подушку, подобно всем остальным. И замечаю, что ступни мои почернели от грязи, что кожа в подколенных сгибах воспалена от того, что я провел слишком много ночей, не снимая волглых джинсов, что гениталии мои малы, как у ребенка.
Простынка настолько стара и латана-перелатана, что я боюсь разодрать ее, устраиваясь поудобнее, зато одеяло и толсто, и мягко. Я заворачиваюсь в него, плотно, по самую шею, и почти уж решаю накрыться им с головой, когда спальня вдруг погружается во тьму.
Испытывая облегчение от обретенной, наконец-то, невидимости, я решаюсь чуть высунуть голову за край койки и глянуть на потолок. Он прозрачен, как я и думал: огромные пластины подцвеченного стекла, за которыми теплится лунный свет, неясный, размытый. Плотики погасших матовых трубок, разделенные промежутками темного воздуха, висят между мной и людьми по другую сторону спальни. Я гляжу в темноту, ожидая, когда глаза мои свыкнутся с нею. И едва они свыкаются, начинаю различать блеклые плечи и светящиеся в полсвечи недреманные очи — и отворачиваюсь. Не знаю, что я надеялся увидеть, но эти сумрачные леса, эти ярусы скрытых тел и светлячковых лиц не порождают в моей душе ни трепета, ни жалости. Стыдясь моего безразличия или воображая, что должен стыдиться его, я предпринимаю сознательную попытку почувствовать