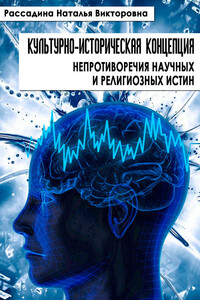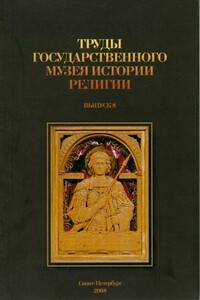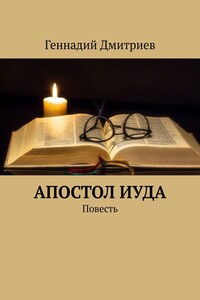Блаженный Августин и августинизм в западной и восточной традициях - страница 25
В IV в. можно заметить начало развития двух богословий, западного и восточного. Свою роль сыграло пелагианство. Пелагий считал, что пороки римского общества непреодолимы, потому что люди оправдывали свою греховность качеством природы – испорченной грехом Адама, с чем надо бороться. Блж. Августин так и не писал об испорченности Адамовым грехом мира, но заметил, что благодать спасла только человека от Адамова греха. Ни Пелагий, ни Августин не включили богословие каппадокийских св. отцов. В основу их учения легли слова св. ап. Павла об «избрании нас во Христе прежде сложения мира», и это значит, что «падшая природа» была воспринята как всецелое падение мира, который, по словам Христа, «грядет сего мира князь и во Мне не имать ничесоже» (Ин 14. 30)[112].
Тогда космология оставалась почти совершенно под влиянием античной философии Аристотеля, природа становилась автономной. «Философская мысль скорее могла развиваться в сторону пантеизма, чем усомниться в самозамкнутости природного бытия…» – замечает прот. Василий Зеньковский[113]. Это оказало влияние на средневековую схоластику Фомы Аквината. Неотомисты не вносят ничего нового, утверждая, что Бог есть «первая причина» (causa prima) мира[114].
Августин, продолжая античную мысль о естественно-правовом принципе, приспосабливал ее к христианскому учению – Бог выступает у него источником правового принципа[115].
В трудах блж. Августина изложены основные положения теократической доктрины, оказавшей глубокое и долговременное воздействие на политико-правовое учение Церкви. В произведении «О граде божием» Августин писал, что в мире существует два государства – «божий град» (Церковь) и «град земной» (государство). Только к Церкви подходит определение государства, данное Цицероном, так как лишь в Церкви право и общая польза, истинная справедливость, мир и покой. При отсутствии справедливости что такое государства, как не «большие разбойничьи шайки». Августин – один из первых церковников, призывавших насильственно приобщать к христианской Церкви. Утверждал, что источником зла является свободная воля людей, государство. «Вы думаете, что никого не следует принуждать к правде, однако читаете у св. Луки, что господин сказал своим слугам: принуди войти всех, кого найдете», рассуждал Августин[116]. Христос никого не принуждал, но «был ли тогда император, который бы верил во Христа и мог бы служить ему в благочестии, издавая законы против нечестия»[117]. Мысль блж. Августина не относится к учению восточных отцов Церкви об обожении человека в Духе Святом. Человек, «персть земная», остается человеком. «Человек – это лишь его «Я», персона, имеющая бытие, знание и волю». Позднее Фома Аквинский напишет «Fersona est relatio» (личность есть отношение). Личность при таком представлении превращалась в маску, индивидуальное «физическое лицо», констатирует Федор Гайда[118].
Запад не принял учения о благодати в смысле синергии, или со-работничества благодати Бога воле человека ко спасению. Августин осознает себя уже внутри движения истории мира, был первым на Западе, кто вступил в богословие с сознанием его исторической перспективы. Он, как пишет Селиверстов, «представил латинскому миру мировоззрение, которое, хотя и в редуцированном виде, стало собственным мировоззрением западного средневековья»[119].
Специфика мышления Августина о государстве связана с убеждением, что без грехопадения государство бы не возникло, поскольку в нем не было бы необходимости. В отличие от Церкви, основанной самим Иисусом Христом, государство не обладало благодатным способом происхождения. Богом установлен лишь принцип государства, создание же и функционирование конкретных государств зависит от людей, которых Бог наделил свободной волей. Люди греховные, и это влияет на устройство государства.