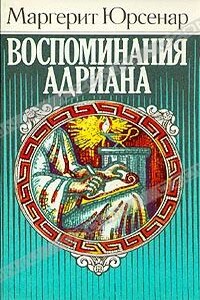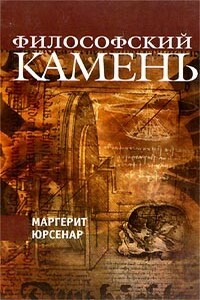С Октавом, фигурой более расплывчатой, мои связи определить труднее. Я свысока оценила его страстное стремление показать окружающим лишь ту сторону своей натуры, которую он считал лучшей, — в двадцать лет я бы его поняла. Мои честолюбивые мечты выражались тогда в желании остаться анонимным автором (в крайнем случае, автором, которого знают только по имени и двум датам, может быть, даже неточным) пяти-шести сонетов, вызывающих восхищение десятка читателей в каждом поколении. Очень скоро я отказалась от подобных мыслей. Литературное творчество — это поток, который захлестывает все; в этом потоке личные сведения о нас — не более, чем отстой. Тщеславие писателя или его скромность мало что значат перед великим явлением природы, которое в нем разыгрывается. И, однако, в сравнении с болезненным эксгибиционизмом нашего времени скрытность Октава, тоже болезненная, мне симпатична.
Навострив уши, слушаю я некоторые его рассуждения об истории: в лучшем случае она для него образец, чем она была для многих светлых умов прошлого и чем в тяжелые минуты вновь становится для нас. Однако я улавливаю в его отношении к ней и более личную нотку. Сидя на ступенях Колизея, он думает о юных христианах, которые, говорят, были здесь замучены, и его терзает мысль о том, что страдания множества молодых безымянных жертв, в каком-то смысле объединенных прекрасным образом Святого Себастьяна, навсегда останутся для него предметом обобщенной жалости, ему невозможно прочувствовать каждую из этих давних агоний в отдельности. Сходная волна печали накатывает на него, когда он думает о неизвестных людях, своих современниках, которых мог бы полюбить, но которых ему никогда не встретить среди миллионов обитателей земли. Историк-поэт и романист, каким я пыталась стать, пробивает брешь в этой невозможности. Октав такой попытки не сделал, но мне мил в нем этот жест — протянутые руки.
В каждом совпадении есть элемент чуда. Посетив в 1865 году галерею Уффици, Октав мимоходом отмечает картины, которые произвели на него самое большое впечатление. Его вкусы несколько отличаются от наших, ведь эстетика — это вечные качели. Октав еще восхищается академической живописью, тогда в полной славе: Доминикино, Ле Гверчино, Ле Гвидо и одновременно «лучезарным реализмом» Караваджо, всем тем, что будут хулить два-три последующих поколения и что в наше время начинает цениться вновь. Ему уже нравится Боттичелли, перед которым в ближайшие пятьдесят лет люди будут почти до неприличия млеть. Но особенно подробно, посвятив ему целую страницу, он описывает произведение одного из тех примитивов, которых он еще рассматривает как очаровательно неумелых, а именно «Фиваиду Египетскую», в ту пору приписываемую Лаурати, а позднее разным другим художникам. Это та самая картина, с фотографией которой — полуиконой, полуталисманом — я не расставалась лет двадцать. На чистом и пустынном фоне, где, однако, виднеется здесь тосканская роща, а там часовня, отличающаяся скупым флорентийским изяществом, мистические монахи приручают газелей, танцуют с медведями, запрягают тигров, пускают иноходью послушных оленей; они беседуют со львами, которые, когда жизнь монахов придет к концу, погребут их в песке; они живут в повседневном общении с зайцами, цаплями и ангелами. Меня пленяет мысль, быть может, наивная, что этот образ, в моих глазах олицетворяющий совершенную жизнь, для «дяди Октава» олицетворял жизнь ангельскую.
Летом 1879-го, а может быть, 1880 года поэт в элегантном костюме из белого репса и несомненно в соломенной шляпе, привезенной из Италии, идет по берегу Хейста. Именно в этот маленький рыбацкий поселок на побережье Западной Фландрии поместила я эпизод из «Философского камня», когда Зенон, спасаясь от западни, которой стал для него Брюгге, делает попытку перебраться в Англию или Зеландию, но отказывается от нее из отвращения к низости, двойной игре и непробиваемой глупости тех, кто предлагает помочь ему бежать. В свое время, склонившись над дорожной картой Фландрии, я искала точки, наиболее близкие к Брюгге, откуда беглец мог, не опасаясь слишком бдительного надзора, пуститься в плавание и куда было бы под силу дойти пешком хорошему ходоку пятидесяти восьми лет. Мне надо было также избежать названий, которые слух воспринимает, как рекламные объявления о тех местах на берегу моря, где можно недорого провести отпуск: Вендёйне, Бланкенберге, Остенде. Хейст звучал явно по-фламандски и в то же время не вызывал туристических ассоциаций и был, как я и хотела, достаточно близко к Брюгге. Тогда, само собой, я еще не знала, что за восемьдесят лет до того Октав с матерью, презирая рулетку и кокоток с модных пляжей, избрали для летнего отдыха эту захолустную дыру.