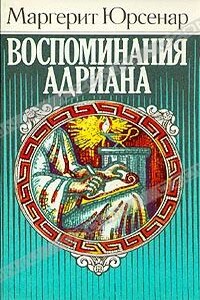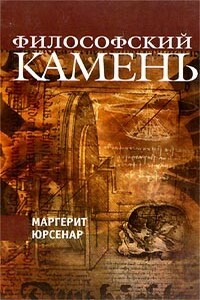Впрочем, в тот день было не до литературы. К обеду ждали принца де Л., который должен был принять участие в стрельбе по голубям. Стрельба происходила посреди парка в неком подобии беседки. Если память мне не изменяет и я не путаю гостя с другими деревенскими соседями, принц, низкорослый и довольно плотный, отличался тем простонародным лукавством, которое свойственно многим принцам. Единственный раз в своей жизни я присутствовала при этом спортивном действе. Прекрасных птиц, шелковисто муаровых и цвета графита, которых по одной вынимали из корзины, сторож помещал в ящик светлого дерева; гость заряжал ружье; птица, считая себя свободной, взлетала, радостно хлопая крыльями, но, мгновенно сраженная выстрелом, камнем падала замертво или, наоборот, долго билась на земле, пока сторож не приканчивал ее ловким ударом, и все начиналось сначала.
На другой день я побывала в Тюэне у Поля Г., сына маленькой Луизы, которую Октав видел в трауре в гостиной Ла Пастюр: Поль был женат на внучке «толстяка-колибри». Обтянутые кретоном комнаты излучали очарование, свойственное старым провинциальным жилищам: по-моему, Луи Труа родился именно в этом доме. На круглом столике лежал альбом с семейными фотографиями; две-три страницы в нем были посвящены «дяде Октаву». Октав, пишущий при свете двух свечей, которые, говорят, он зажигал иногда среди бела дня, отгородившись ставнями от внешнего мира. Октав в черной полумаске, которую он собирается сменить на другую маску; Октав с черепом в руках; Октав с охапкой цветов — так, наверно, он приносил их в канун Троицына дня к реликварию Святой Роланды; Октав со своим ручным кабаном. Эти поэтические фотографии, конечно, разбудили мою фантазию. Я спросила у Поля, есть ли в его библиотеке книги нашего «двоюродного деда». Он нашел только первую, «Лиственный кров», и протянул ее мне вместе со сборником о праведных кончинах, составленным тетушкой Ирене.
Против моей двоюродной прабабки Ирене я испытывала предубеждение. Ирене Дрион, на мой взгляд, принадлежала к породе безупречных и деспотичных матерей, которые часто встречались в ту эпоху и в судьбе своих сыновей играли роль злых демонов. В 1929 году я еще ничего о ней не знала, но меня сразили полное отсутствие критической мысли в книге Ирене и ее назидательная банальность. Чего только ни было в этом творении, был даже, если не ошибаюсь, нечестивец Вольтер, пожирающий собственные экскременты; полистав такого рода опусы, можно понять яростный антиклерикализм радикалов нашего детства и даже жалкий Музей атеизма в Ленинграде, перенявший у них эстафету. И все же я почувствовала некоторое уважение к сочинению моей дальней родственницы. Эта дама в кринолине пыталась взглянуть в глаза последней истине — она обеспечила себя примерами, чтобы совершить великий переход в вечность. Впрочем в ту эпоху люди были озабочены этим вопросом больше, чем в нынешнюю. Благочестивые особы, которые поперхнулись бы любым словом, какое могло быть сочтено непристойным, охотно обменивались в гостиной жуткими и грязными подробностями, связанными с агонией. У нас все наоборот: любовь мы выставляем на всеобщее обозрение, смерть стараемся как бы замаскировать. Между двумя этими формами стыдливости выбирать не хочется.
Книга сына Ирене с первых же страниц выпала у меня из рук. Ее содержание, составленное из «мыслей», — Октав всегда отдавал предпочтение этой форме, которая ему не давалась, потому что ему не хватало определенности суждений, — огорчило меня не меньше, чем благочестивые общие места в произведении его матери. В юности приверженная классической литературе почти так же пылко, как и «дядя Октав», я вдруг разом открыла для себя своих современников: «В поисках утраченного времени», «Подземелья Ватикана», «Дуинские элегии», «Волшебную гору»18. В сравнении с этими новыми для меня сокровищами произведение отшельника из Акоза показалось мне на редкость бесцветным. Быть может, если бы Поль Г. дал мне в тот вечер прочитать «Ремо, воспоминания брата о брате», я была бы тронута этой книгой: читатель, умеющий читать, чувствует, как в ней в буквальном смысле слова кровоточит каждая страница. Если бы он дал мне «Письма к Жозе» и я открыла бы ее на пронзительных воспоминаниях отрочества, которыми стареющий Октав делился со своим более молодым другом, я бы, конечно, обнаружила, что горе ребенка, внезапно оказавшегося лицом к лицу с рутиной коллежа и жестокостью однокашников, неуспех в учении, бегство в музыку (в эти годы она была великим утешением Октава), его подорванное здоровье, в конце концов, убедившее родителей предоставить мальчика одиночеству, которым он так дорожил, — все это напоминает историю молодого австрийского аристократа, за год до этого рассказанную мной в романе «Алексис». Может, я обнаружила бы и другие, более интимные соответствия между Октавом и студентом из Прессбурга. Однако бедность, так много определявшая в жизни Алексиса, не имела никакого касательства к жизни молодого бельгийца, чья мать унаследовала угольные копи. Мне повезло, что в библиотеке Поля Г. этих двух книг не оказалось, или во всяком случае, что он не нашел их в тот вечер. Не следует слишком рано отягощать себя фамильными призраками.