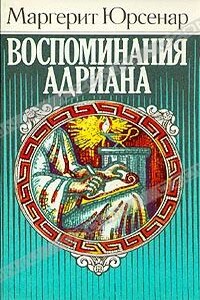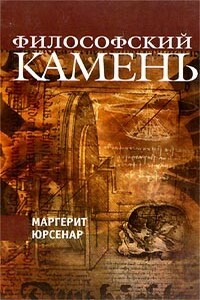Вторая сестра, Жоржина, предстает на фотографии величественной молодой женщиной в тугом корсаже с глубоким вырезом; короткие локоны плотно облегают голову — эта прическа придавала современницам королевы Александры ложное сходство с античными статуями. Черты правильного лица ничего не выражают. Фотография была сделана в Вене эпохи вальсов, где Жоржина находилась вместе с мужем, сыном намюрского банкира, происходившего, говорят, из семьи потомственных нидерландских коммерсантов. Муж был вольнодумцем и каждое воскресенье, проводив жену до порога церкви, заезжал за ней лишь по окончании службы. Особенно возмущало тех, кто об этом рассказывал, что в промежутке он иногда проводил время в кафе.
Красивая женщина, Жоржина, к сорока восьми годам превратилась в настоящую развалину. Горничная подводила эту сутуловатую, подслеповатую, снедаемую диабетом гостью к одному из плетеных кресел маленького зимнего сада, где принимала Жанна. Расшатанные зубы Жоржины с трудом разжевывали даже самое рассыпчатое печенье; жидкие, хотя все еще черные волосы обрамляли пожелтевшее лицо. Я видела в ней не столько больную, сколько жуткий символ самой Болезни. Только карие глаза, безжизненные на венской фотографии, блестели ласково и в то же время оживленно, поглядывая на людей и на окружающие предметы с каким-то ищущим кокетством. Я не помню ни единого слова из тех, какими обменивались сестры, и поскольку мне ничего неизвестно ни о характере Жоржины, ни о ее интимной жизни, у меня остался в памяти только вот этот еще горячий взгляд на опустошенном лице.
Ее сын Жан поселился с матерью в окрестностях Брюгге, чтобы дать больной возможность подышать воздухом, более полезным, чем намюрский. Он женился на женщине из местного хорошего общества, у которой сегодня столько же крестов и лент, сколько их было у тети Луизы после 1914 года, но полученных за участие уже в другой войне. Жан прожил в Брюгге спокойную жизнь богатого буржуа, если не считать двух вражеских оккупаций, первая из которых бросила его, одетого в форму цвета хаки, на дороги Франции. Вторую он наблюдал уже на одре болезни и умер в 1950 году, не оставив потомства.
Чаще встречалась я с его сестрой Сюзанной, молодой, тяжеловатой Кибелой, унаследовавшей карие глаза матери, — как сейчас вижу ее в гостях у нас на фоне пихт Мон-Нуара; запомнилось мне это во многом потому, что ее сопровождал красавец-сеттер. Лет двадцать спустя я увиделась с Сюзанной, которая поздно вышла замуж, но уже была матерью маленькой дочери, в ее поместье в Арденнах. Она приезжала туда только летом, а все остальное время жила с мужем в Северной Африке, где у г-на де С. была плантация. Мне показалась, что Сюзанна стала жестче; в арденнском доме чувствовалось какая-то смесь алчности и колониальной неряшливости. Привезенная из Африки гиена расхаживала по огромной клетке, подозрительно следя за поведением двуногих, и свирепо хохотала по ночам.
Портреты Зоэ, любимой сестры Фернанды, меня особенно интересовали, потому что я никогда не видела самой модели. На первом из них изображена молодая женщина в платье из шотландки, что-то крепко сжимающая в руках, вероятно, книгу. Пышные развевающиеся волосы создают впечатление, быть может, ложное, что Зоэ коротко острижена. Взгляд ее устремлен за рамки кадра, словно Зоэ кого-то ждет, без сомнения, некого г-на Д., за которого она вышла в 1833 году и который, судя по всему, был из числа тех, кого ждать не стоит. В резко очерченных плоскостях и выпуклостях этого лица есть что-то от той странности пропорций, которую Леонардо определял как красоту. На более поздней фотографии это сорокалетняя женщина с нервным и принужденным выражением, а в глазах у нее тот стеклянный блеск, который иногда появлялся у Жанны и Теобальда. Дальше мы увидим, как с ней обошлась жизнь.
Не сохранилось ни одной фотографии, которая могла бы мне помочь описать трех мальчиков в их юные годы. Поэтому я не стану пытаться очертить по воображению портрет старшего из моих дядей, умершего за шестнадцать лет до моего рождения. Гастон — загадка, какие довольно часто встречаются в семейных тайниках. Родившийся в Сюарле в 1858 году и в Сюарле же умерший в 1887 в возрасте двадцати девяти лет, он как бы и вовсе не существовал. Между тем этот Гастон, который все же не был призраком, после кончины брата, родившегося лишь немногим раньше его, стал почти еще в колыбели старшим сыном в семье, приверженной традициям; в качестве старшего он должен был быть окружен особыми попечениями, на него должны были возлагать надежды, связывать с ним планы будущего. Однако ничего подобного не найти в нескольких письмах и в устных свидетельствах, которые дошли до меня от этих лет. Никаких детских или школьных воспоминаний, никаких упоминаний о какой-нибудь любовной интрижке, невесте или о несостоявшихся матримониальных планах, ни малейших указаний на карьеру, к которой он себя готовил, или на то, чем занимался этот человек, умерший, как мы видели, почти тридцатилетним. Его братья и сестры, которые, собравшись вместе хоть на один час, сразу начинали вспоминать молодость, Фрейлейн, невыносимо болтливая, когда говорила о тех годах, которые по прошествии времени казались ей счастливыми, никогда ни единым словом не упоминали о Гастоне; только одну довольно мрачную подробность касательно его смерти, уж не знаю правдивую или нет, Фернанда поведала моему отцу. Это молчание кажется тем более странным, что Жанне и Фернанде в ту пору, когда Гастона постиг, судя по всему, довольно жалкий конец, было соответственно девятнадцать и пятнадцать лет, а старший брат, неважно, ненавидимый или любимый, обычно играет большую роль в жизни младших сестер. Если бы Гастон был калекой, как Жанна, этого наверняка не скрывали бы. Но о нем молчали, потому что (мою гипотезу впоследствии подтвердил надежный источник) Гастон был дурачком.