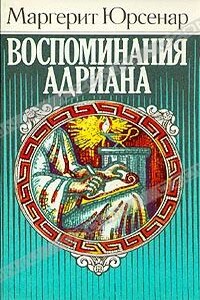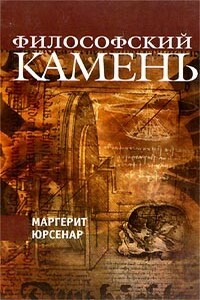К тому же Фернанда скучала по своим сестрам, особенно по старшей из них, мадемуазель Жанне де К. де М., калеке от рождения, которая не могла выйти замуж и не хотела уйти в монастырь, и потому поселилась в Брюсселе в выбранном ею самой непритязательном жилище. Почти так же, как по сестре, а может даже больше, Фернанда скучала по своей старой гувернантке, немке, жившей теперь при мадемуазель Жанне в качестве компаньонки и правой руки. Эта особа в расшитом стеклярусом корсаже, суровая, но наделенная простодушием и жизнерадостностью на немецкий лад, заменила мать осиротевшей в раннем детстве Фернанде. Вообще-то говоря, в свое время молодая девушка взбунтовалась против влияния этих двух женщин; отчасти, чтобы избавиться от их благочестивого и довольно бесцветного общества, она и вышла за г-на де К. Но теперь, после двух лет брака, мадемуазель Жанна и Фрейлейн казались Фернанде воплощением благоразумия, добродетели, покоя и даже какой-то тихой радости жизни. К тому же, воспитанная в уважении ко всему, что так или иначе имело отношение к Германии, Фернанда хотела, чтобы роды у нее принимал брюссельский врач, который получил образование в одном из немецких университетов и успешно пользовал во время беременности ее замужних сестер.
Г-н де К. уступил. Он вообще всегда уступал желаниям своих сменявших друг друга женщин, как потом уступал желаниям дочери, то есть моим. В этом, без сомнения, проявлялось великодушие, подобного которому я не встречала ни в ком другом — ему всегда легче было сказать «да», чем «нет» тем, кого он любил или хотя бы терпел возле себя. Была в этом и доля безразличия, сотканного из нежелания затевать споры, всегда досадные, но также из уверенности, что в общем все это не имеет значения. Наконец, и прежде всего, г-н де К. принадлежал к тем живым натурам, которых всякое новое предложение пленяет хотя бы на минуту. Брюссель, где хотела поселиться Фернанда, в глазах г-на де К. обладал притягательностью большого города, чего был лишен дымный и скучный Лилль. Человек более осмотрительный постарался бы снять дом на несколько месяцев; но г-н де К. всегда принимал решения на всю жизнь. Агентству по продаже недвижимости поручено было подыскать желанное жилище; г-н де К. выехал на место, чтобы остановить свой выбор на одном из предложенных вариантов, и, как и следовало ожидать, самый дорогой показался ему самым подходящим. Г-н де К. тут же купил дом. Это был небольшой особняк, на три четверти обставленный, с маленьким садом в ограде, увитой плющом. В особенности пленила г-на де К. расположенная на первом этаже большая библиотека в стиле ампир, где каминную полку украшал мраморный бюст Минервы в шлеме и с эгидой, величаво возвышавшийся на зеленом мраморном цоколе. Мадемуазель Жанна и Фрейлейн наняли прислугу и договорились с сиделкой, которая должна была помогать при родах и остаться потом на несколько недель ухаживать за матерью и ребенком. Супруги де К. прибыли в Брюссель с бесчисленным количеством чемоданов, набитых большей частью книгами, которым предстояло разместиться на полках библиотеки, и с таксой, кобелем по кличке Трир, купленным Мишелем и Фернандой за три года до этого во время поездки в Германию.
Устройство дома превратили в развлечение; произвели смотр прислуге: кухарке Альдегонде и ее младшей сестре, горничной Барбаре, или Барбе (обе родились в окрестностях Хасселта на границе с Голландией), и садовнику-конюху, попечениям которого были вверены лошадь и маленький нарядный экипаж для прогулок в Камбрском лесу, расположенном по соседству. С удовольствием, которое быстро приедается, супруги показывали каждому, кто был готов восторгаться, свое новое обиталище. Пожаловала многочисленная родня. Г-н де К. ценил свояченицу Жанну за ее здравый смысл, основательный и трезвый, и за то, как мужественно она переносит свое увечье. Меньше нравилась ему Фрейлейн с ее дурацкой жизнерадостностью. К тому же Фрейлейн так усердно учила своих питомиц немецкому, что он стал для них вторым родным языком; когда Фрейлейн и Жанна навещали Фернанду, все они говорили только по-немецки, чем выводили из себя г-на де К. не столько потому, что он не понимал женской болтовни, которую вовсе и не стремился понимать, сколько потому, что он видел в этом проявление недопустимой бестактности.