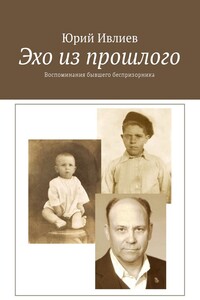Характер эгоиста в высшей степени ясен у всех отрицателен, т. е. не то, что они сами великие эгоисты, а то, что признают эгоизм священным принципом. Они пылают негодованием против неправды, а неправдою называют нарушение чьего-нибудь эгоизма. Тогда как грех вовсе не в том нарушении, а в нечистом желании, в неправде душевной. В сущности, когда мы щадим чужой эгоизм, обходимся с ним осторожно, мы поступаем как воры, не выдающие других врагов, или распутники, считающие долгом чести не выдавать женщин, с которыми блудят. Во всем направлении современных умов, во всех толках и стремлениях вы не найдете и намека на самоотречение как на коренной принцип; всякое душевное благородство рассматривается только как средство для эгоистического земного благополучия. Эта черта нынешних умов и душ отвратительна, и самые эти души гораздо лучше своего исповедания.
Государство и церковь действуют иначе. Они выставляют своею целью общее благо и прямо требуют для этого блага ограничения эгоизма, пожертвования некоторою его долею. Это понятно, это логично и достижимо и выполняется в огромных размерах. Злоупотребления не вытекают из самого принципа государства и церкви, точно так же, как и добрые чувства отрицателей не вытекают из принципа эгоизма. Государство в известном смысле требует от каждого, чтобы он отчасти отрекался от своего имущества, от своей воли и иногда от своей жизни. Вот почему против него восстают отрицатели. Это некоторый положительный принцип, и отрицать его труднее, чем отрицать эгоизм, который в самой сущности есть отрицание, отвержение всяких связей.
Итак, мир и мирские для меня имеют такое же низшее значение, как и для вас, но вы, отвергая мир, находите что-то подобное своему отвержению в том, в чем я вижу только крайнее выражение мирского начала. Вы думаете, что мир добивается жизни, а я думаю, что он идет к смерти, что он доводит развитие своих начал до того, что сам себя убьет, и только этим убедится в ложности этих начал. Мечты человеколюбия, обновления, благополучия не имеют правильного источника, правильной цели и потому приведут в убийству, хаосу и страданию. Весь вопрос, как вы справедливо говорите, заключается в том, какое безобразие больше: то ли, которое вы отрицаете, или то, которое я; но я твердо убежден, что то, что я отрицаю, есть несомненное безобразие.
Чувствую, что много бы нужно еще сказать, и сказать лучше, чем говорю, и прибавлю только, что грусть мучит меня ужасная, и что я почти прихожу в негодование при виде людей спокойных и в хорошем духе. Простите, что я так навязчиво спорю с вами, мне дорого ваше хорошее мнение, и я не хотел бы, чтобы вы меня неправильно понимали. Еще раз простите меня.
Ваш душевно Н. Страхов".
Здесь, как мы видим, Страхов уже защищает перед Л. Н-чем принципы церкви и государства, и расхождение их делается гораздо заметнее.
Страхов до конца жизни остался другом Л. Н-ча, потому что личная преданность его ко Л. Н-чу была безгранична.
В одном из следующих писем, сетуя на упреки Л. Н-ча, он пишет ему:
"Когда я уезжал от вас в Крым, я часто припоминал ваши выражения о том, что "кто не со мною, тот против меня", и слова в письме, что я "хуже позитивистов", и я думал: он отлучает меня от церкви. Ну, что же делать! Я ведь потому держусь своих мыслей, что не могу иначе, и не лукавлю перед собою. Но пусть он отвергает меня, я останусь ему верен. Простите, что мне все хочется высказать вам свою нежность; но я почти готов молчать и воздавать вам почтение втайне от вас".
Разумеется, при таком отношении он не мог далеко отойти от Льва Николаевича.
В начале мая 1882 года С. А. с маленькими детьми и дочерьми уехала в Ясную Поляну, а Л. Н-ч на этот раз остался в городе со старшими мальчиками, учившимися в гимназии. Ему это было тем более удобно, что он задумал напечатать в журнале "Русская мысль" свою "Исповедь" и ему нужно было держать корректуры. Отдавая в печать "Исповедь", написанную им еще в 1879 г., Л. Н-ч приписал заключение к ней в виде рассказа о сне, виденном им недавно и давшем ему полное религиозное спокойствие. В рассказе об этом сне Л. Н-ч описывает свое фантастическое положение на помочах над пропастью, символически изображая свое неустойчивое душевное состояние. Когда "Исповедь" появилась, вероятно, в плохом французском переводе, этот рассказ о сне дал повод одному горячему испанскому публицисту написать восторженную статью о Л. Н-че, причем публицист говорит, что Л. Н-ч предается аскетическим опытам и опрощению. И так упростил свою постель, что спит головой на столбе, а тело и ноги подвешены на ремнях.