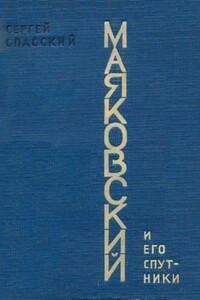К чему это? Не знаю. Но необыкновенно".
Л. Н-ч поехал этот раз в сопровождении своего шурина С. А. Берса. О путешествии на пароходе С. А. Берс вспоминает так:
"На пароходе Л. Н-ч интересовался бытом поволжских народностей. Лев Николаевич обладает замечательною способностью сходиться с незнакомыми пассажирами во всех классах. Когда он попадал на угрюмых и необщительных незнакомцев, он все-таки не затруднялся подойти к ним и, после нескольких попыток, удачно вызывал их на разговор. Его талант психолога и сердце подсказывали ему приемы, и он умел купить незнакомцев своим участием. В двое суток на пароходе он перезнакомился со всею палубою, не исключая и добродушных матросов, у которых на носу парохода мы проспали все ночи...
На Каралыке его встретили, как старого знакомого. Мы поселились в отдельной кочевке, нанятой у муллы, который жил с семьею в другой кочевке рядом. Не всякому в жизни случалось видеть кочевку. Она представляет собою деревянную клетку, имеющую форму приплюснутого полушария. Клетка эта покрывается большими войлоками и имеет деревянную расписную дверцу. Пол заменяет ковыль. Кочевка легко раскладывается и перевозится. Летом в степи это жилище весьма приятно.
Чтобы лечиться кумысом, надо, подобно башкирам, употреблять его как исключительную пищу и при этом оставить все мучное, овощи и соль, а есть только мясо.
Само собой разумеется, что Лев Николаевич приноровился к этому образу жизни, и оттого кумыс вскоре принес ему желанную пользу".
Но сначала, по приезде, Лев Н-ч чувствовал себя нехорошо и так писал об этом Софье Андреевне:
1871 года. 18 июня.
"...С тех пор, как приехал сюда, каждый день в шесть часов вечера начинается тоска, как лихорадка, тоска физическая, ощущение которой я не могу лучше передать, как то, что душа с телом расстается. Душевной тоски о тебе я не позволяю подниматься. И никогда не думаю о тебе и детях, и оттого не позволяю себе думать, что всякую минуту готов думать, а стоит раздуматься, то сейчас уеду. Состояния я своего не понимаю: или я простудился в кибитке в первые холодные ночи, или кумыс мне вреден, но в три дня, которые я здесь, мне хуже. Главное, слабость, тоска, хочется играть в милашку и плакать, а ни с башкирами, ни со Степой это неудобно.
...Больнее мне всего за себя то, что я от нездоровья своего чувствую себя одной десятой того, что есть. Нет умственных и, главное, поэтических наслаждений. На все смотрю, как мертвый, то самое, за что я не любил многих людей. А теперь сам только вижу, что есть, понимаю, соображаю, но не вижу насквозь с любовью, как прежде. Если и бывает поэтическое расположение, то самое кислое, плаксивое, хочется плакать.
...Ново и интересно многое: и башкиры, от которых Геродотом пахнет, и русские мужики, и деревни, особенно прелестные по простоте и доброте народа".
Как интересно для психологии художника это определение поэтического взгляда на мир: смотреть и видеть не только то, что есть, а смотреть с любовью и видеть насквозь.
Обеспокоенная нездоровьем Л. Н-ча, Соф. Андр. делает ему выговор и отвечает так:
"...Если ты все сидишь над греками, ты не вылечишься. Они на тебя нагнали эту тоску и равнодушие к жизни настоящей. Недаром это мертвый язык, он наводит на человека и мертвое расположение духа. Ты не думай, что я не знаю, почему называются эти языки мертвыми, но я сама им придаю это другое значение".
Но вот силы Л. Н-ча понемногу восстанавливаются, он начинает входить в интересы окружающей его жизни и, по обыкновению, наблюдать. В письме к С. А. от 27 июня он дает такую бытовую картинку:
"...Башкирская деревня, зимовка, в двух верстах. На кочевке в поле у реки только три семейства башкир. У нашего хозяина (он мулла) четыре кибитки: в одной живут он с женой и сын с женой (сын Нагим, которого я оставил мальчиком тот раз), в другой - гости. Гости беспрестанно приезжают муллы, и с утра до ночи дуют кумыс. В третьей кибитке два кумысника: таможенный чиновник, Петр Станиславович, которого очень уважает Иван, и болезненный богатый донской казак. В четвертой огромной кибитке, которая была мечеть прежде и которая протекает вся (что мы испытали вчера ночью) живем мы. Я сплю на кровати, на сене и войлоке. Степа - на перине на полу. Иван - на кожане в другом углу. Есть стол и один стул, кругом висят вещи, в одном углу буфет и продукты, как, по выражению Ивана, называется провизия; в другом платья, уборная, в третьем библиотека и кабинет. Впрочем, так было сначала, теперь все смешалось. В особенности куры, которых мы купили и которых мне ни с того ни с сего подарил один поп, портят порядок. Зато тут же при нас несутся, по три яйца. Еще лежит овес для лошади и собака, прекрасный черный сеттер, называется Верным. Лошадь буланая и служит мне хорошо. Я встаю очень рано, часов в пять с половиной (Степа спит до десяти), пью чай с молоком - три чашки, гуляю около кибиток, смотрю на возвращающиеся с гор табуны, что очень красиво, лошадей тысячи, все разными кучками с жеребятами. Потом пью кумыс, и самая обыкновенная прогулка, зимовка, т. е. деревня, там остальные кумысники, все, разумеется, знакомые. Первый управляющий гр. Уварова, в очках, с бородой, старый, степенный; московский студент, самый обыкновенный и потому скучный. Товарищ прокурора, маленький, в блузе, определительно говорит, оживляется, когда о суде речь, не неприятный. Его жена знает Томашевского и студентов, курит, и волосы короткие, но неглупая. Помещик Муромскии, молодой, красивый, не окончивший курс в Москве. Все, даже Степа, зовут его Костей. Очень симпатичный. Все эти составляют компанию. Потом другая компания. Поп, почти умирающий (очень жалок), профессор семинарии греческого, - Степа его возненавидел, говорит, что он, верно, ставит единицы всем, - и буфетчик из Перми, все наши друзья. Потом брат с сестрой, кажется, купцы, смирные и, как купцы, все равно, что их нет. Я со Степой правильно два раза в день отправляюсь ко всем и к башкирцам знакомым, не забывая буфетчика, и, кроме того, одну большую делаю поездку или прогулку. Обедаем мы каждый день баранину, которую мы едим из деревянной чашки руками. Для утешения Степы я купил в Самаре пастилы и мармеладу, и он продукты эти употребляет в десерт".