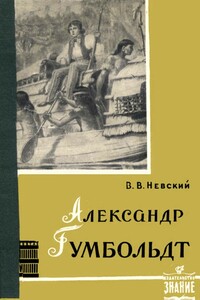(* "Мои воспоминания" А. Фета. С. 329. *)
В это время в литературной деятельности Льва Николаевича и его друга Фета, слабо, но последовательно отражавшего в себе процесс внутренней жизни Толстого, происходит затишье.
И вот Дружинин пишет Толстому и Фету убедительные письма, ободряя их на литературную работу. Особенно интересно его письмо к Толстому:
"Тороплюсь отвечать на письмо ваше, любезный друг Лев Николаевич, и как вы, вероятно, догадываетесь, по поводу того, что вы пишете о вашем отношении к литературе. На всякого писателя набегают минуты сомнения и недовольства собою, и, как ни сильно и ни законно это чувство, никто еще из-за него не прекращал своей связи с литературой, а всякий писал до конца. Но у вас все стремления, добрые и недобрые, держатся с особенным упорством, потому вам нужнее, чем кому другому, подумать о том и дружески обсудить все дело.
Прежде всего вспомните то, что после поэзии и труда мысли все труды кажутся дрянью, Qui a bu, boira (*), и в 30 лет оторваться от деятельности писателя значит лишить себя половины всех интересов в жизни. Но это лишь одна трудность дела, есть кое-что еще важнее.
(* Кто пил, тот будет пить. *)
На всех нас лежит ответственность, корень которой в теперешнем огромном значении литературы посреди русского общества. Англичанин или американец может расхохотаться тому, что в России не только 30-летние люди, но седовласые помещики 2000 душ потеют над повестью в 100 страниц, которая появилась в журнале, пожирается всеми и возбуждает на целый день толки в обществе. Каким художеством ни объясняй этого дела, его не объяснишь художеством. То, что в других землях дело празднословия, беззаботного дилетантизма, - у нас выходит совсем другим. У нас дела сложились так, что повесть - эта потеха и мельчайший род словесности - выходит чем-нибудь из двух: или дрянью, или голосом передового человека в целом царстве. Мы, например, все знаем слабость Тургенева, но между самой его дрянной повестью и самыми лучшими романами госпожи Евгении Тур, с ее полуталантом, - целый океан. Публика русская по какому-то странному чутью выбрала себе из толпы писателей четверых или пятерых глашатаев и ценит их как передовых людей, не желая знать никаких соображений и выводов. Вы частью по талантам, частью по светским качествам вашего духа, а частью просто по стечению счастливых обстоятельств стали в такое благоприятное отношение к публике. Стало быть, тут уходить и прятаться нельзя, а надо работать, хотя бы до истощения сил и средств. Это одна сторона дела, а вот другая. Вы член литературного круга, по возможности честного, независимого и влиятельного, который десять лет при гонениях и невзгодах (и несмотря на свои собственные пороки) твердо держит знамя всего, что либерально и просвещенно, и выносит весь этот гнет похабства житейского, не сделавши ни одной подлости. При всей холодности света и необразованности и смотрении свысока на литературу, этот круг награжден почетом и нравственной силой. Слова нет, что в нем есть людишки пустые и даже глуповатые, в общей связи и они что-нибудь значат, и они не были бесполезны. В этом круге вы опять-таки, несмотря на то, что пришли недавно, имеете место и голос, каких, например, не имеет Островский, огромно-талантливый и в нравственном отношении столько же почтенный, как и вы. Отчего это случилось, было бы слишком долго разбирать, да и не в том дело. Оторвавшись от круга литературного и предавшись бездеятельности, вы соскучитесь и лишите себя важной роли в обществе. На этом месте прекращаю мою диссертацию по неимению места в письме, - если эти мысли вас займут собой, то вы сами их разовьете и пополните".
С тем же дружеским советом он обращается и к Фету:
"Добрый и многоуважаемый Афан. Афан. Насчет вашего намерения не писать и не печатать более - скажу вам то же, что Толстому: пока не напишете что-нибудь хорошего, исполняйте ваше намерение, а когда напишется, то сами вы и без чужого побуждения измените этому намерению.
Держать хорошие стихи и хорошую книгу под спудом - невозможно, хотя бы вы давали тысячу клятв, а потому лучше и не собирайтесь. Эти два или три года и Толстой, и вы находитесь в непоэтическом настроении, и оба хорошо делаете, что воздерживаетесь; но чуть душа зашевелится и создастся что-нибудь хорошее, оба вы позабудете воздержание. Итак, не связывайте себя обещаниями, тем более, что их от вас обоих никто не требует. В решительности вашей и Толстого, если я не ошибаюсь, нехорошо только то, что она создалась под влиянием какого-то раздражения на литературу и публику. Но если писателю обижаться на всякое проявление холодности или бранную статью, то некому будет и писать, разве кроме Тургенева, который как-то умеет быть всеобщим другом. К сердцу принимать литературные дрязги, по-моему, то же, что, ездя верхом, сердиться на то, что ваша лошадь невежничает, в то время, когда вы, может быть, сидя на ней, находитесь в поэтическом настроении мыслей. Про себя могу сказать вам, что я бывал обругиваем и оскорбляем, как лучше требовать нельзя, однако же не лишался от того и частички аппетита, а, напротив, находил особенное наслаждение в том, чтобы сидеть крепко и двигаться вперед, и, конечно, не брошу писать до тех пор, пока не скажу всего, что считаю нужным высказать" (*).