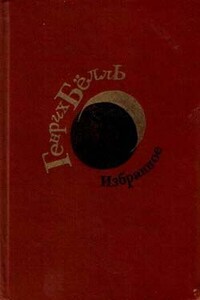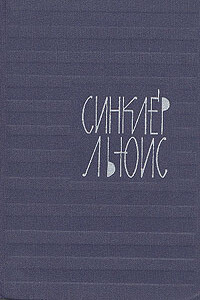Беда или порок – что-то носилось в воздухе, но Йохен был слишком простодушен, он никогда не чуял самоубийства и не верил, что случилось несчастье, даже если перепуганным постояльцам удавалось отличить сквозь запертые двери номера тишину смерти от тишины сна; он разыгрывал из себя этакую продажную шельму, тертого старикашку, но в людей все же верил.
– Как хочешь, – сказал портье, – я пойду завтракать. Только не пускай к нему никого, он придает этому большое значение. Вот. – И он положил на конторку перед Йохеном красную карточку: "Я всегда рад видеть мать, отца, дочь, сына и господина Шреллу, но больше я никого не принимаю".
Шрелла? – испуганно подумал Йохен. Разве он еще жив? Ведь его тогда убили… а может, у него был сын?
Этот аромат свел на нет все остальные запахи, все, что люди выкурили здесь за последние две недели, этот аромат можно было нести перед собой наподобие знамени: вот я иду, видная персона, победитель, перед которым ничто не может устоять, рост – метр восемьдесят девять, седой, сорока с лишним лет, костюм из сукна особого, "правительственного" качества – коммерсанты, промышленники и художники такого не носят. Йохен сразу оценил сановную элегантность посетителя – то был министр или посланник, чья подпись имела почти что силу закона, этот человек беспрепятственно проникал сквозь обитые войлоком, стальные и железные двери приемных, проходил повсюду, пробивая себе дорогу плечами, словно тараном, излучая вежливость и любезность, в которой чувствовалось что-то заученное; на сей раз он пропустил вперед бабушку, только что забравшую своего отвратительного пса из рук Эриха – второго боя, помог даме-скелету, которая казалась выходцем с того света, подойти к лестнице и схватиться за перила, пробормотав: "Не стоит благодарности, сударыня".
– Неттлингер.
– Чем могу служить, господин доктор?
– Мне нужно видеть доктора Фемеля. Срочно. Немедленно. По служебным делам.
Играя красной карточкой, Йохен качнул головой и вежливо отказал. "Мать, отца, сына, дочь, Шреллу". Неттлингера он видеть не желает.
– Но мне известно, что он здесь.
Неттлингер? Когда-то я слышал это имя. Да и лицо его напоминает мне что-то, что я поклялся не забывать! Это имя я слышал много лет назад и сказал себе: "Йохен, запомни его, возьми его на заметку", – но теперь я не знаю, что хотел запомнить. Во всяком случае, будь начеку. Тебя бы наверняка стошнило, если бы ты узнал, что он успел натворить на своем веку, тебя бы рвало до самой твоей кончины, если бы ты увидел тот фильм, который покажут ему в день Страшного суда, – фильм о его жизни; он из тех молодчиков, которые приказывали выламывать у мертвецов золотые коронки и отрезать волосы у детей.
Беда или порок? Нет, в воздухе запахло убийством.
Эти люди понятия не имеют, как и когда давать чаевые, по чаевым легче всего определить человека; сейчас, пожалуй, уместно было бы предложить сигару, но, во всяком случае, не деньги, а тем более такие крупные, как зеленая кредитка в двадцать марок, которую этот господин, ухмыляясь, положил на конторку перед Йохеном. Что за олухи – они не знают простейших законов обхождения с людьми, не знают азбучных истин обращения с портье; как будто в "Принце Генрихе" оптом и в розницу продаются чужие секреты, как будто постояльца, который платит сорок – шестьдесят марок в сутки, можно купить за зеленую двадцатимарковую бумажку, за двадцать марок, предложенных совершенно незнакомым человеком, чье единственное удостоверение личности – дорогая сигара и костюм из добротного сукна. Подумать только, что такой тип становится министром или дипломатом, хотя не знает азов сложнейшей из всех наук – науки подкупа. Йохен огорченно покачал головой и не притронулся к зеленой бумажке. "И правая их рука полна подношений".
Трудно поверить, но к зеленой бумажке прибавилась синяя; предложенная сумма дошла до тридцати марок, и в лицо Йохену дохнули густым облаком дыма "Партагас эминентес".
Ну что ж, дыши на меня, дыши мне в лицо своей четырехмарковой сигарой, можешь даже прибавить еще кредитку – лиловую. Йохена нельзя купить ни за какие деньги, а тебе уж подавно; не многих любил я в своей жизни, но молодой Фемель мне по душе. Тебе не повезло, ты, конечно, важный господин, твоя подпись немало значит, но ты опоздал на полторы минуты. Тебе бы надо почуять, что деньги совершенно неуместны, когда дело касается меня. У меня, если хочешь знать, в кармане договор, заверенный нотариусом, и по этому договору моя каморка под крышей принадлежит мне пожизненно, к тому же я имею право держать голубей; на завтрак и на обед я могу выбрать себе чего моя душа пожелает, кроме того, я ежемесячно получаю полтораста марок чистоганом, прямо в руки; эта сумма в три раза больше той, что мне требуется на табачок; у меня есть друзья в Копенгагене и Париже, в Варшаве и Риме; если бы ты только знал, как стоят друг за друга голубятники; но ты ничего не знаешь, хотя и вообразил, будто за деньги можно добиться всего; эту философию вы внушаете самим себе и, разумеется, портье в отелях; за деньги портье готовы на все, они продадут тебе родную бабушку за лиловый полусотенный билет. Но я сам себе хозяин, друг мой, с одним-единственным ограничением – здесь внизу, когда я заменяю портье, мне запрещено курить мою трубочку; сегодня я в первый раз жалею об этом, ведь я мог бы выпустить навстречу дыму твоей "Партагас эминентес" дым из моей трубки, набитой черным табачком. Говоря ясно и недвусмысленно – можешь поцеловать меня в… Фемеля я тебе все равно не продам. Пусть спокойно играет себе с половины десятого до одиннадцати в бильярд, хотя я лично нашел бы для него более подходящее занятие, а именно – сидеть на твоем месте в министерстве. Или же делать то, что он делал в юности: бросать бомбы, чтобы у таких мерзавцев, как ты, земля горела под ногами. Но если он хочет играть в бильярд с половины десятого до одиннадцати, пожалуйста, пусть себе играет, на то я здесь и поставлен, чтобы никто не мешал ему, это моя обязанность. А теперь можешь забрать свои деньги и идти, проваливай, а если положишь еще бумажку, пеняй на себя. Мне приходилось глотать бестактности и с терпеливым видом сносить человеческую глупость; в эту книгу я записывал нарушителей супружеской верности и эротоманов, не раз отшивал я обезумевших жен и рогоносцев, но, пожалуйста, не думай, что я был создан для такой участи. Я всегда был порядочным малым и, конечно, прислуживал во время мессы так же, как и ты, а в певческом ферейне распевал песни во славу отца Колпинга и святого Алоизия. К двадцати годам я уже шесть лет прослужил в этом заведении. И если я не потерял веру в человеческий род, то лишь потому, что на свете есть несколько таких людей, как молодой Фемель и его мать. Забирай свои деньги, вынь изо рта сигару и поклонись мне повежливей, ведь я уже старый человек и видел на своем веку столько пороков, сколько тебе и во сне не снилось; пусть бой подержит тебе вращающуюся дверь, и убирайся.