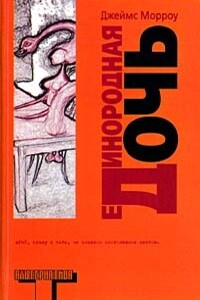На третью ночь безостановочного кружения по дешевым публичным домам я поспорил с одной из тамошних разбитных девок. Фифи — я всегда называл их «Фифи» — решила, что во второй заход обслужила меня особенно, это было как-то связано с ее ртом, bouche [11], и теперь требовала с меня двадцать франков вместо обычных десяти. Эти дамочки видели в каждом пехотинце мешок с деньгами. В Бар-ле-Дюк только и слышно было «les Americains, beaucoup d’argent» [12].
— Dix francs [13], — сказал я.
— Vingt [14], — настаивала Фифи.
Глаза у нее были неподвижные, как две дохлые улитки. Волосы — цвета дерьма голштинской коровы.
— Dix.
— Vingt — или говорить патруль, что ты меня порвал, — пригрозила Фифи.
Она имела в виду «изнасиловал».
— Dix, — повторил я, швырнув монеты на кровать, после чего Фифи объявила с кривой усмешкой, что у нее «страшная болезнь» и она надеется, что заразила меня.
Понимаете, вас там не было. Это не ваше тело было нафаршировано кусочками острого металла, и не вас заразила трипаком Фифи, и никто не ждал, что вы будете делать большое различие между сдающимися пацанами, которых должны протыкать штыками, и девками-лягушатницами, которых не должны. В груди вспухала боль. Половина моих друзей погибла, отстаивая сраную деревеньку, улочки которой были завалены конским навозом. Все, что я понимал тогда, так это то, что мерзкие гонококки вгрызаются в мой любимый орган.
Мой «ремингтон» стоял у двери. Сумерки окрасили штык в цвет репы; такой мирный и непохожий на саму войну тесак — если забыть о его назначении. Когда я воткнул его в Фифи и услышал, как сталь скребет кости ее таза, то подумал, насколько пророческой оказалась ее обмолвка: «Говорить патруль, что ты меня порвал».
Я воспользовался пожарной лестницей. Ладони мои были влажными и теплыми. Всю дорогу назад я чувствовал грызущую боль в животе, словно снова попал под газы. Жалел, что переступил порог призывного пункта в Ваалсбурге. Помогла дурацкая песенка. После шести припевов и бутылки коньяка я наконец уснул.
Мадемуазель из Бар-ле-Дюк, парле-ву?
Мадемуазель из Бар-ле-Дюк, парле-ву?
Мадемуазель из Бар-ле-Дюк,
Она оттрахает тебя даже на курином шестке,
Джиги-джаги, парле-ву?
Шестнадцатого июля я сел на один из «увольнительных» поездов и вернулся в свой полк, окопавшийся вдоль Марны. Там однажды уже случилась великая битва, где-то в четырнадцатом, и все ожидали следующей. Я с радостью покидал Бар-ле-Дюк со всеми его чудесами и удовольствиями. Местные жандармы, как я слышал, уже занимались делом Фифи.
Цок-цок, топ-топ-топ. Мой страж останавливается, двадцать одна секунда. Затем шагает на юг по черной дорожке.
На Марне мне поручили пулемет «хотчкис», я установил его на песчаном холме, оттуда передовой окоп было легко прикрывать, а там размещался мой родной взвод. В той дыре у меня завелись два хороших дружка, так что, когда появился капитан Маллери с приказами от к general [15] — теперь нас прикомандировали к Двадцатому французскому корпусу, — где говорилось, что я должен перетащить «хотчкис» на милю вниз по реке, я пришел в ярость.
— Эти парни совершенно неприкрыты, — возмутился я. Металлолом в груди накалился докрасна. — Если пехота пойдет в атаку, мы потеряем весь взвод.
— Переносите «хотчкис», рядовой Джонсон, — рявкнул капитан.
— Это не очень хорошая мысль, — не унимался я.
— Переносите.
— Они — словно голые в бане.
— Переносите. Быстро.
Конечно, через пару-тройку войн нападение солдат на офицеров превратилось в своеобразную спортивную игру — мне все это известно, потому что я ужасно люблю читать брошенные туристами газеты, — но тогда шел 1918-й, и идея только зарождалась. Я определенно не проявил большой изобретательности, просто выхватил «кольт» и с безыскусностью первопроходца выстрелил Маллери прямо в сердце. Получилось все довольно грубо, никакого изящества.
Ну и кто, черт возьми, случайно оказался в это время рядом? Наш командир лично, раздражительный старикан, полковник Хоррокс, у которого глаза прямо полезли на лоб. Он прохрипел мне, что я арестован. Заорал, что меня повесят. Но к этому времени я был уже сыт по горло. Сыт ужасом газовых атак и оторванной руки Алвина Платта. До тошноты надоело быть рядовым американской пехоты и почетным большевиком, осточертели жадные шлюхи и гонорея и вообще вся эта тупая, кровавая, вонючая война. И я сбежал. Вот именно: сбежал, дезертировал с Западного фронта.