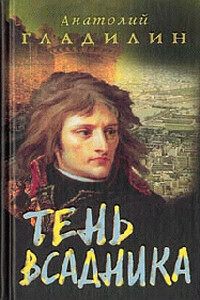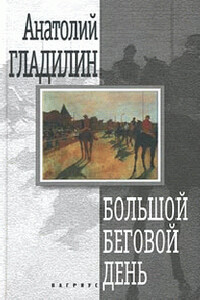Говорят, на Западе люди в 60 лет еще бодры, женятся, играют в теннис, ходят в бассейн, путешествуют. Там другая жизнь, что ли? А я, не достигнув 50 лет, был уже живым трупом. Почему? Мне кажется, все дело в том, что все устои нашего общества противоречат нормальному человеческому существованию. Мы привыкли делать одно, а говорить другое, совершать поступки, противоположные нашему желанию, подавлять порывы, лицемерить, понимая, что лицемерим, казня себя за это, продолжать врать. Наша жизнь — это борьба с бесконечными табу. Например, есть одна вечная истина: своя рубашка ближе к телу. Но попробуй об этом где-нибудь заикнись — тебя заклеймят, раздавят. Человек инстинктивно живет согласно этой истине. Но ему от этого стыдно, он сам себя презирает и, занимаясь самоедством, сам себя разрушает как личность. Человек по природе собственник. Мне всегда хотелось иметь свой домик, сад, огород, машину. И ни от кого не зависеть! Однако советский человек не имеет права об этом даже мечтать, иначе тебя всенародно объявят мещанином. А попробуйте работать в так называемом советском коллективе с ярлыком мещанина! Заклюют! Правда, среди моих сослуживцев были такие, которые незаконно построили себе дачи за государственный счет. Но никто из них никогда честно не признался — мол, хочу иметь свой участок земли, свою крышу над головой. Нет, они прятались за пышными фразами — мол, лишь высшие интересы заставляют их обносить свою дачку штакетником. Они делали карьеру, бесцеремонно расталкивая других локтями, а прикрывались словами о бескорыстном служении Партии и Отечеству. Впрочем, чего уж мне валить все на идеологию — я сам был хорош. Когда мне после войны дали ордер на двухкомнатную квартиру, вдруг выяснилось, что есть еще один очередник, Иванов, который живет в подвале с тремя детьми. Мне намекнули, что я должен уступить одну из комнат Иванову. Будь я совершенно искренним, я бы ответил, что я понимаю — у Иванова трое детей, но я не хочу опять скандалов на коммунальной кухне. Хватит, я всю жизнь прожил в коммуналке, я ждал долго своей квартиры, и пусть Иванов тоже подождет. Во всяком случае, я был бы честен. Но я знал хорошо правила игры, и я сказал другое. Я сказал, что я беру много работы домой. Я имею второй допуск. На бумагах, которые я приношу домой, стоит гриф «Секретно». А Иванов не имеет этого допуска. Так что, дорогие товарищи, смотрите сами, не произошла бы утечка государственных тайн. Вот этот довод подействовал, с ним все согласились. И так я въехал в двухкомнатную квартиру.
Признаюсь, какое-то время мне было стыдно смотреть Иванову в глаза, но потом я нашел для себя утешение. Ну представьте себе, что тонет в ледяной воде человек. И вы — этому свидетель. Что вы сделаете? Ну, конечно, только последний подлец уйдет, спокойно насвистывая. Нет, вы будете бегать по берегу, давать утопающему советы, может быть, бросите ему веревку, если найдете, или протянете ему длинный шест, если найдется на берегу что-нибудь подходящее. Или вы побежите к телефонной будке звонить в милицию. Только одного вы не сделаете — сами не прыгнете в ледяную воду. Почему? Да потому, что прыгать в ледяную воду — это чистое самоубийство.
А ведь я не самоубийца. Я ведь простой, нормальный человек, воспитанный в определенной системе, умеющий рассчитывать варианты. В этом отношении меня многому научил тридцать седьмой год. Как раз тогда я заканчивал университет, и нашего декана объявили врагом народа. Собирали подписи под соответствующим заявлением. И меня попросили подписать. Я не спал несколько ночей. Я знал, что декан порядочный человек и никакой не враг, не троцкист, не шпион, не убийца, но я уже понял, что нельзя переть против системы. Система — это как асфальтовый каток, попадешь под нее — раздавит. А вот мой товарищ Юрка Щукин не поставил свою подпись. Более того — выступил на собрании. Ну и что? В 54-м году Щукина реабилитировали, но он вернулся из лагерей больным человеком, с хроническим туберкулезом. Может быть, он поступил как герой, но кому польза от этого геройства? А я, оставаясь в Москве, я работал, приносил пользу стране. Убежден, что на лесоповале от меня было бы меньше толку.