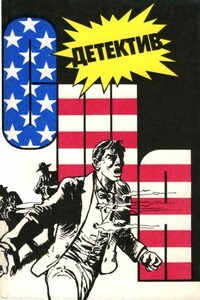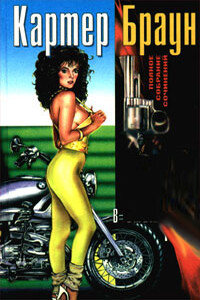И нельзя сказать, мол, «лиха беда — начало» или — служба длится же не круглые сутки. Нет, происходит постоянное, нескончаемое, постепенное погружение, а через несколько лет хватятся — а им уже не отмыться от той самой грязи, которую они призваны были разгребать. Это все равно как поставить срезанные веточки в чистую банку. Чем дольше не менять в ней воду, тем серее и грязнее будет становиться налет на ее стенках. А если просто оставить и забыть, вода испарится и высохнет, росточки ваши сгниют, и останется только влажный, черноватый слой слизи, из-под которой и стекла-то не видно, и не верится, что оно вообще есть.
А самый стыд в том, что никто не замечает, как это происходит.
И спасения от этого нет. Спросите хоть Рэя Тренкела, поговорите с ним — и сейчас же учуете, как веет от него безысходностью. Вот вышел он когда-то чистить этот мир, ежедневно вступал в битву, разгребал грязь не жалея себя, в полную силу дрался со злом. Годы шли, удары его становились все яростней — и все реже попадали в цель. Он полысел, поседел, мышцы его стали дряблыми, и вы не смотрите, что он сыплет шуточками и кажется душевным малым: это всего лишь игра на публику. Горечь переполняет его. Постоянная горечь. Он пал духом и почти отчаялся, ибо понял: ему не победить.
Удивительно? Да, но для тех, кто никогда об этом не задумывался — большинство же полицейских взялись за это дело, потому что надеялись изменить порядок вещей. Вздор? Однако еще больший вздор считать, что они поступили в полицию, заранее зная, что ничего не изменят. Мне не верят, когда я твержу об этом. И черт с ними, пусть не верят. Страх подумать, как давно перестало меня занимать, верят мне или нет.
Как бы то ни было, полное представление о том, чем пахнет на наших улицах, получают лишь те, кто должны по этим улицам ходить. Жертвы не в счет: они остаются на улице недолго. Две категории граждан понимают что к чему — полицейские и преступники. Те и другие крепко усвоили главный урок: победить в этой войне невозможно. Только самые сильные, только самые глупые продолжают биться с врагом, которого разбить нельзя — и они это знают. Вот и я, глупый, страшный, серый волк Джек Хейджи, продолжал шагать туда, где оставил машину.
* * *
Еще через час я, заправившись на любимой моей станции, пересек в густой автомобильной толчее весь город по диагонали и двинулся наконец, в сторону Джерси. Ничего заслуживающего внимания на шоссе не происходило. Опять пошел дождь. Миля за милей ложились под колеса, неотличимые одна от другой, а я дергал затянувшийся узел галстука и смотрел на дорогу сквозь расчищенное «дворниками» ветровое стекло. Часам к четырем, слава Богу, прояснилось. В пять тридцать я уже искал здание плейнтонской полиции.
Юнец в джинсах, стоивших дороже моего дивана, объяснил мне, как проехать к полиции, и в конце концов я достиг цели и поставил машину на немощеном участке, отмеченном табличкой «Стоянка для посетителей». На пороге я соскреб с подошв налипшую грязь и толкнул дверь.
Внутри я был встречен утомленной толстой дамой лет пятидесяти, которую, судя по карточке на отвороте жакета, следовало называть «миссис Брайант». Ее отделяла от меня стеклянная перегородка, в нескольких местах треснувшая и скрепленная проволокой. Что не давало рассыпаться миссис Брайант, я не знал. Я представился и услышал, что сержант Эндрен меня ждет. Она показала, куда мне пройти. Интересно, отрываются ли когда-нибудь ее карие глаза под набрякшими веками от часов на стене? Я поблагодарил ее за отзывчивость, пересек вестибюль и постучал в дверь кабинета.
— Входите, не заперто.
И я вошел в серо-зеленый кабинет сержанта полиции Эндрена, заранее зная, что увижу там старый письменный стол и обшарпанный стеллаж с картотекой и прочую ветхую меблировку, загромождающую слишком тесную комнату, которую предоставляют полицейским, прослужившим достаточно долго. Ну, разумеется, не все там было казенное: имелись, к примеру, кофеварка и кружка, на стене висело несколько карикатур, а также черно-белая фотография очередного телегероя. А на двери крупными буквами значилось «Сержант Эндрен».