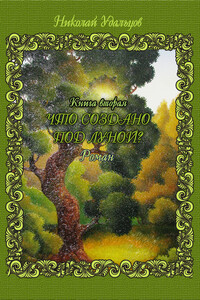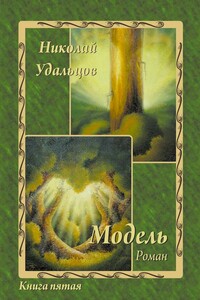Она пока протекала не в Воркуте, за Полярным кругом, а в Москве, недалеко от Садового кольца…
Когда Ананьев и Вакула уже выходили из кварты Заместителя председателя Воркутинского охотсоюза, Давид Яковлевич Рабинович, словно между всем, спросил:
Долго вы еще по тундре бродить будете?
Ананьев, задумавшись лишь на мгновенье, ответил:
Пока в тундре будут деньги…
И уже на лестничной клетке, видя, что Вакула и Ананьев покачиваются, Давид Яковлевич спросил:
– Доберетесь? А-то, может, у меня переночевать останетесь?
На что Юрий Михайлович довольно твердо ответил:
– Ерунда. Мы сейчас еще пару баб возьмем.
После этих слов, Вакула сосредоточился только на мгновенье:
– Не. Возьмем одну бабу и одну бутылку.
– Почему, Вакула?
– Кайф тот же, а обойдется дешевле…
– …Сколько тебе лет, Андрей?
Двадцать семь, Эдуард Михайлович.
– Ты еще совсем молодой человек – на скамейке под тополями одного из дворов, в жилом пятиэтажном нагромождении между метро «Студенческая» и Кутузовским проспектом сидели два совершенно разных, и, в тоже время, чем-то похожих человека.
Старший из них, совсем седой, был одет в, когда-то видимо дорогой, но уже изрядно потертый временами года светло-серый суконный костюм. На вид ему было за шестьдесят, но толстая резная палка с мельхиоровой инкрустацией, казалось, была нужна ему больше по привычке, чем из-за прорех в здоровье. Во всяком случае, у него были сильные руки. Как у каменщика, или лесоруба.
И взгляд его был тверд, без всяких признаков старческого младенчества.
Лопатистая, так же совсем седая борода скрывала расстегнутый ворот рубашки.
– Ты совсем молодой человек, Андрей, – повторил он после некоторого молчания, – А я уже успел состариться в этом дворе.
– Состариться я тоже успею, – ответил второй, кареглазый, высокий шатен, одетый в коричневый свитер крупной вязки и джинсы. Короткая, слегка вьющаяся борода молодого человека отдавала рыжиной и была аккуратно подстрижена.
Так легко говорят о старости те, кто еще не ощущает то, что старость когда-нибудь наступит. Эти слова не были вызовом, и звучали тихо и бесцветно, как констатация незначительного факта.
Как и весь их разговор.
Разговаривали они уже довольно долго, и разговор их спором не был потому, что они говорили об одном и том же.
Просто один из них был на сорок лет старше другого.
Одним был Эдуард Михайлович Плавский, член МОСХа, заслуженный художник и заслуженный деятель культуры РСФСР. Другим – молодой художник Андрей Каверин.
Одним.
Другим.
Эдуард Михайлович достал сигарету, вставил ее в короткий толстый мундштук и, затянувшись несколько раз, проговорил:
– Тогда ты должен понять, что в одиночку в атаку ходят только идиоты и… карьеристы.
– Не станете же вы обвинять меня в карьеризме?
– Нет. И ты, я думаю, это отлично понимаешь, – ни один из них не повышал голоса, и они не смотрели друг другу в глаза.
– И что же вы посоветуете мне делать?
– Прежде всего – не ругать судьбу. Она, для тебя складывается пока удачно.
– Я так не считаю.
– Многие не имеют того, что имеешь ты.
– Куда больше людей в мире имеют то, что я не получу никогда – возможность говорить правду.
– Не кори судьбу. Помни две вещи. Во-первых – семью, эпоху и страну не выбирают. А во-вторых – не думай, что мы не говорили правду потому, что ее не видели.
Вновь наступило молчание. Андрей тоже достал сигарету и закурил – Эдуард Михайлович не торопил его. Но когда Каверин погасил сигарету, тихо прибавил:
– Не каждый может повести молодую жену генерал-полковника на свою персональную выставку…
– Вы и об этом знаете?
– Это твое личное дело, Андрей, но он кандидат в члены ЦК, и может устроить тебе такие неприятности, что…
– Я русский художник.
– Пока еще нет. Пока ты просто удачно попался на глаза кому-то. Я поддержал тебя, меня поддержали другие люди…
– Я знаю…
– Так, знай, что есть еще очень много других художников, не обделенных талантом, но обойденных судьбой. Пойми, я говорю о судьбе, а не о конформизме. Кстати, видишь, – Плавский указал рукой на старшего лейтенанта в парадной форме, появившегося из углового подъезда с овчаркой на коротком поводке, – Кажется твой знакомец.