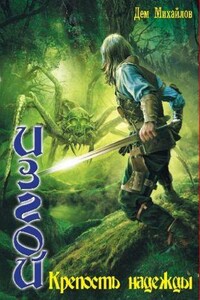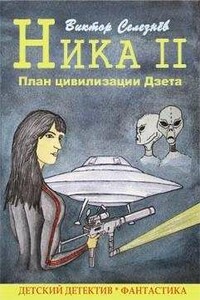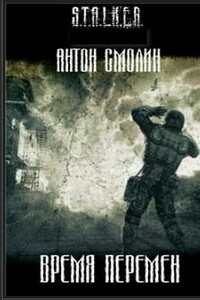— И я свидетель тому — совершенно ровным голосом ответил старший страж, досадливо косясь на одного из помощников, вцепившегося рукой в захрустевшее деревце.
— Загляну за платой после обеда — добавил я и неспешно пошел вслед за сильгой, бережно протирая лезвие топора вынутой из кармана тряпкой.
— Буду ждать. Удар у тебя мастерский.
— А камешек ваш, господин палач — захлебывающимся булькающим голосом донеслось мне вслед. Тот самый молодой страж, кому поплохело при виде свершения казни.
— Зачем он мне? — не оборачиваясь, ответил я.
— Луфс! — с досадой проворчал Лавр — Ты совсем дурак? Для отвлеченья тот камень был, дурная твоя голова! Палач проявил милость. Казнил в один миг. Феникл и не понял, что уже умер. Ш-шах! И он уже там, у ног Светлой Лоссы, готовится ответ давать за деяния свои. Да разве сумеет он достойный ответ дать? У, мерзость! Прямиком во Тьму его! У кого ключ от кандалов? И притащите рогожу какую-нибудь, чтобы тело прикрыть. А затем дуйте за телегой. Свезем его до родного дома.
— Так семья его еще утром собралась и прочь подалась. Пустой двор… вещи бросили, скотину и птицу оставили. Убежали…
— А ты бы не убежал? Муж и отец убийцей кровавым оказался. Как людям в глаза смотреть? Ох,… ну и денек. Тащите уже рогожу… Так… погоди, а кто ж тогда отпевание оплатит, коли его родные сбегли? Не мы же…
Голоса стражников затихли, я же убрал топор на пояс, сложил и спрятал тряпку, стянул перчатки.
Дело сделано.
Теперь можно и отобедать.
* * *
— Так ты и живешь?
Вопрос был мягкий, но неожиданный. Анутта умела делать это в совершенстве — долгое время пребывать в молчании, находиться в объятьях собственных раздумий, а затем вдруг повернуть к тебе голову и задать тихий, но отчетливый вопрос.
— Так и живу — согласился я.
— Путешествуешь от селения к селению и обрываешь жизни…
— Да. Я палач. Кто-то сажает редьку, кто-то подковывает лошадей, выписывает указы, собирает налоги или строит дома. А я казню преступников.
Я был рад поддержать беседу. Не скрою — меня никогда не тяготило молчаливое одиночество. У палача редко бывают попутчики — разве что вынужденные. Так и с теми не поговорить. Трудно разговаривать с трясущимся от страха старым крестьянином или же мелким торговцем, когда их заметно «екает» от страха при малейшем моем движении.
А однажды, когда я слишком резко повернулся в седле к идущему рядом бродячему седому кузнецу, так тот бухнулся на колени и внезапно признался в совершенном десятки лет назад убийстве по неосторожности. Вырвался молоток из потной юношеской ладони и, вылетев в дверь, угодил прямо в висок семенящей куда-то старушке. Много ли надо старой? Дунь разок и преставится. А тут молоток…. Сердешная померла на месте, а паренек ринулся бежать. Да так и бегает с тех пор, бродя от селения к селению, за гроши выполняя кузнечную работу или помогая тамошним кузнецам как молотобоец.
Но все же я не молчун по своей натуре. Если беседа интересна — я буду рад поддержать ее в меру сил.
— У каждого своя работа — повторила Анутта — Расскажи мне о своей, палач Рург.
— Ты уже сама все сказала — езжу от селения к селению и казню людей. Другие не могут — грех смертный. Никто не хочет после смерти оказаться в огненной тьме. Все мечтают о прохладе горных лугов Лоссы.
— А ты? Не боишься? Скольких ты убил?
— Казнил — поправил я.
— Одно и то же…
— Нет — не согласился я — Я не выношу приговор. Это делает судья. Он решает судьбу преступника, он держит его жизнь на ладони. И если его вердикт смерть,… то уже не изменить ничего. Если не я — придет другой палач. И выполнит приговор.
— На Высшем Суде такие отговорки не примут.
— Откуда тебе знать? — парировал я.
— Жизнь священна. Прервавший ее — грешен. Великий грех, что не смыть никаким покаянием.
— Я не силен в диспутах о вере и грехах — прикрыл я глаза, ощущая сонливость, что вполне понятно — после столь сытного обеда и большого кубка вина, что я осушил стоя и в несколько больших глотков.
Вино мне преподнесли жители Луноры. В благодарность за быстроту, неожиданность и правильность моего удара. Давняя традиция таким образом благодарить палача за хорошо проделанную работу. И за милосердие. Ведь можно и придержать руку, дать жертве ощутить всю полноту чудовищной боли.