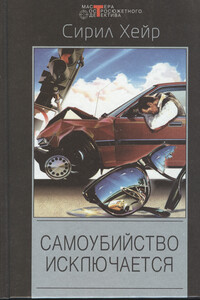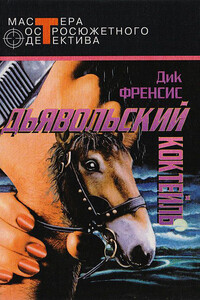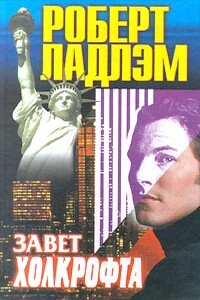— Если бы Бог создал этот мир для людей, то алкоголь прояснял бы, а не затуманивал мозги человека, делал бы его красноречивее, а не косноязычнее. Ведь самые важные вещи человек говорит в подпитии.
— Так для кого же Бог создал этот мир, если не для людей? — спросил я.
Старик заговорил строже:
— Как знает любой дурак, для строительных спекулянтов и генералов.
Я улыбнулся, но выражение лица старика не изменилось.
— Он, — я кивнул в сторону Харви, — сказал вам, что меня интересует?
Счастливчик Ян вынул из кармана тонкую металлическую коробочку. Она была вытерта и отполирована, как морская галька. Нажав ногтем большого пальца на край коробочки, он открыл ее. На багряно-розовом плюше лежали старомодные очки. Он посадил их на нос.
Старик взял керосиновую лампу двумя руками, повернул фитиль, делая свет чуть сильнее, и поднес ее к моему лицу. Лампа осветила и лицо самого старика. Кожа его была такой сморщенной, что небольшой шрам терялся в ее складках и извилинах. Многодневная щетина отливала серебром. Живые глаза то скрывались за стеклами очков, то выглядывали поверх них. При повороте головы очки то превращались в сияющие серебряные пенни, то вновь открывали маленькие карие глазки старика. Кивнув, он снял очки и отправил их в выложенный плюшем металлический футляр.
— Моя работа — расследование военных преступлений, — сказал я.
Если описывать старика одним словом, то следует назвать его иссохшим. Если бы он когда-нибудь распрямился, то был бы высоким, а если бы снял свой многослойный сюртук, то худым, широкополая черная иудейская шляпа скрывала лысину.
— Военные преступления? — повторил он. — О какой войне вы говорите?
— О второй мировой войне, которая закончилась в 1945 году.
— Значит, она закончилась? — спросил он. — Жаль, что мне никто не сказал об этом. Я все еще воюю.
Я кивнул. Он набросил полу сюртука на свои колени. Потом сказал:
— Вы понимаете, нам иначе нельзя. Еврей, родившись, уже выиграл безнадежную битву против мира. Для еврея само существование уже подвиг, победа над фашизмом. — Он осмотрел меня с ног до головы, причем бестактности в этом не было. — Значит, они до сих пор посылают людей писать юридические бумаги, чтобы юристы могли и дальше говорить о военных преступлениях. Каждое преступление для юриста праздник, верно? — Он беззвучно засмеялся, похлопывая себя сморщенной маленькой рукой по колену, глаза его блестели.
— Я хочу поговорить с вами о концлагере Треблинка, — сказал я.
Он закрыл глаза.
— Значит, либо вы никогда там не были, либо вы немец. — Потом он торопливо добавил: — Зла на немцев я не держу...
— Я тоже, — сказал я. — У меня много друзей-антисемитов.
— Meschugge, — сказал старик, — gawz meschugge[36]. — Он шлепнул себя по ляжкам и фыркнул. Харви храпел. Старик повернулся, чтобы посмотреть на него, из его уха торчал пук ваты.
— Концлагерь Треблинка, — подсказал я старику.
— Да, — сказал он. — Они использовали там одноокисный газ. Он неэффективен. — Он улыбнулся одними губами. — В Освенциме у них лучше получалось Время их все же учило. С помощью «циклона-Б» они убили в Освенциме два с половиной миллиона, с одноокисью такого ни за что не достичь. Ни за что.
— Я хочу поговорить о Поле Луи Бруме, — сказал я. — Вы знали его.
Старик говорил осмотрительно, тщательно выбирая слова. Пронзительный голос его звучал тем не менее достойно.
— Да. Верно. Я знал Брума.
— Вы его хорошо знали? — спросил я.
— Хорошо? — переспросил Счастливчик Ян. Подумав, ответил: — Плохо. Любое знакомство в концлагере было плохим. Вы видите, как уводят людей умирать, и вы счастливы, что вас пока оставили в живых. В этом наша вина, вся Европа страдает от чувства вины. Вот почему так много злобы в мире. Бывший охранник помнит того, кого он бил или же послал на экзекуцию, люди, видевшие, как нас ведут по городу, помнят, что забыли об этом через пять минут, а мы, жертвы, помним, что радовались, когда уводили наших друзей, потому что их смерть означала нашу жизнь. Так что, как видите, мы все мучаемся от сознания вины.
— О Бруме, — вставил я.
— А-а, — вскричал старик. — Мои разговоры смущают вас, значит, и вы чувствуете то же самое.