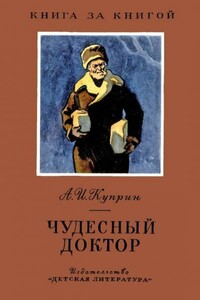Он стоит у широкого окна, равнодушно прислушиваясь к гулу этого большого улья, рассеянно, без интереса, со скукою глядя на пестрое суетливое движение. К нему подходит невысокий офицер с капитанскими погонами — он худощав и смугло румян, черные волосы разделены тщательным пробором. Чуть-чуть заикаясь, спрашивает он Александрова:
— Какого э… корпуса?
— Второго московского, господин капитан.
— Э… На что же вы себе такие волосья отпустили? Думаете, красиво?
И он кричит громко:
— Андриевич!
— Я! — раздается отклик с другого конца коридора, и к офицеру быстро подбегает и ловко вытягивается перед ним тот самый Андриевич, который шел вместе с Александровым до шестого класса, очень дружил с ним и даже издавал с ним вместе кадетскую газету.
Офицер спрашивает:
— Вашего корпуса?
— Так точно, господин капитан.
— Э… Так возьмите этого отца протодиакона и тащите его к цирюльнику стричься, ишь, какую гривицу отрастил.
— Слушаю, господин капитан.
Весело, лукаво улыбаясь, он непринужденно берет Александрова за рукав и говорит:
— Идем, идем, фараон.
Потом он сам наблюдает, как в умывалке цирюльник стрижет наголо бывшего дружка-приятеля, и слегка добродушно подтрунивает.
— Почему же я фараон? — спрашивает Александров.
Тот отвечает:
— Потому же, почему я обер-офицер. Разница между первым и вторым курсом.
— А кто же этот капитан?
— Это командир нашей четвертой роты, капитан Фофанов, а по-нашему «Дрозд». Строгая птица, но жить с нею все-таки можно. Я тебя давно знаю. Ты у него досыта насидишься в карцере.
По окончании стрижки он доставляет его ротному командиру. Тот смотрит на новичка сверху вниз, склоняя голову то на левый, то на правый бок.
— Э… Ничего. Так хоть немножко на юнкера похож. Вы его подтягивайте, Андриевич.
С трудом, очень медленно и невесело осваивается Александров с укладом новой училищной жизни, и это чувство стеснительной неловкости долгое время разделяют с ним все первокурсники, именуемые на юнкерском языке «фараонами», в отличие от юнкеров старшего курса, которые, хотя и преждевременно, но гордо зовут себя «господами обер-офицерами».
В кличке «фараон», правда, звучит нечто пренебрежительное, но она не обижает уже благодаря одной своей нелепости. В Александровском училище нет даже и следов того, что в других военных школах, особенно в привилегированных, называется «цуканьем» и состоит в грубом, деспотическом и часто даже унизительном обращении старшего курса с младшим: дурацкий обычай, собезьяненный когда-то, давным-давно, у немецких и дерптских студентов, с их буршами и фуксами, и обратившийся на русской черноземной почве в тупое, злобное, бесцельное издевательство.
За несколько лет до Александрова «цукание» собиралось было прочно привиться и в Москве, в белом доме на Знаменке, когда туда по какой-то темной причине был переведен из Николаевского кавалерийского училища светлейший князь Дагестанский, привезший с собою из Петербурга, вместе с распущенной развинченностью, а также с модным томным грассированием, и глупую моду «цукать» младших товарищей. Может быть, его громкий титул, может быть, его богатство и личное обаяние, а вероятнее всего, стадная подражательность, так свойственная юношеству, были причинами того, что обычаем «цукания» заразилась сначала первая рота — рота его величества, — в которую попал князь, а потом постепенно эту дурную игру переняли и другие три роты.
Однако это вредное самоуправство оказалось недолговечным. Преобладающим большинством в училище были коренные москвичи, вышедшие из четырех кадетских корпусов. Москва же в те далекие времена оставалась воистину «порфироносною вдовою», которая не только не склонялась перед новой петербургской столицей, но величественно презирала ее с высоты своих сорока сороков, своего несметного богатства и своей славной древней истории. Была она горда, знатна, самолюбива, широка, независима и всегда оппозиционна. Порою казалось, что она считает себя совсем отдельным великим княжеством с князем-хозяином Владимиром Долгоруким во главе. Бюрократический Петербург с его сухостью, узостью и европейской мелочностью не существовал для нее. И петербургской аристократии она не признавала. «В Питере — все выскочки. Самым старым родам не более трехсот лет, а ордена и высокие титулы там даются за низкопоклонство и угодливость». А Москва? «Что за тузы в Москве живут и умирают! Какие славные вековые боярские столбовые роды обитают в ней на Пречистенке, на Поварской, на Новинском бульваре и на Никитских…» И самый воздух в первопрестольной был совсем иной, чем петербургский: куда крепче, ядренее, легче, хмельнее и свободнее. Петербургские штучки, словца и шуточки вяло прививались в Москве и скоро отмирали. Таким же путем прекратилось в Александровском училище и пресловутое немецкое «цуканье». Не место ему было в свободолюбивой Москве. Угнетенные навязанной мелкой тиранией господ обер-офицеров, юнкера, однако, не жаловались ни высшему начальству, ни своим родителям: и то и другое было бы изменой внутреннему духу и укладу училища. Переворот произошел как-то случайно, сам собою, в один из тех июльских горячих дней, когда подходила к самому концу тяжелая, изнурительная лагерная служба.