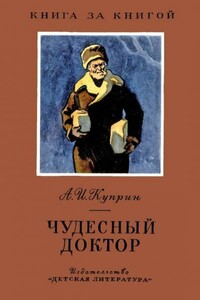Рота умылась, вычистилась, оделась и выстроилась в коридоре, чтобы идти строем на утренний чай.
К перекличке, как и всегда, явился Дрозд и стал на левом фланге. Перекличка сошла благополучно. Юнкера оказались налицо. Никаких событий в течение ночи не произошло. Дрозд перешел на середину роты.
— Юнкер Александров, — вызвал он спокойным голосом.
— Я, — отозвался звучно Александров и ловко сделал два шага вперед.
— До моего сведения дошло, что вы не только написали, но также и отдали в журнальную печать какое-то там сочинение и читали его вчера вечером некоторым юнкерам нашего училища. Правда ли это?
— Так точно, господин капитан.
— Потрудитесь сейчас же принести мне это произведение вашего искусства.
Александров побежал к своему уборному шкафчику. Дорогой он думал сердито:
«Как же мог Дрозд узнать о моей сюите?.. Откуда? Ни один юнкер, — все равно будь он фараон или обер-офицер, портупей или даже фельдфебель, — никогда не позволит себе донести начальству о личной, частной жизни юнкера, если только его дело не грозило уроном чести и достоинства училища. Эко какое запутанное положение»…
В голову не могла ему прийти простая мысль о том, что самому Дрозду или одному из других офицеров училища, или каким-нибудь вне училищным их знакомым мог попасться под руку воскресный экземпляр «Вечерних досугов».
— Пожалуйте, господин капитан, — сказал Александров, подавая листки.
Дрозд сухо приказал:
— Сейчас же отправляйтесь в карцер на трое суток с исполнением служебных обязанностей. А журналишко ваш я разорву на мелкие части и брошу в нужник… — И крикнул: — Фельдфебель, ведите роту.
И вот Александров в одиночном карцере. На лекции и на специальные военные занятия его выпускает на час, на два сторож, прикомандированный к училищу ефрейтор Перновского гренадерского полка. Он же приносит узнику завтрак, обед и чай с булкой.
У юнкеров было много своих домашних неписаных старинных обычаев, так сказать, «адатов». По одному из них юнкеру, находящемуся под арестом и выпускаемому в роту для служебных занятий, советовалось не говорить со свободными товарищами и вообще не вступать с ними ни в какие неделовые отношения, дабы не дать ротному командиру и курсовым офицерам возможности заподозрить, что юнкера могут делать что-нибудь тайком, исподтишка, прячась. Ведь травили же они свое начальство, совсем в открытую, ядовитыми и даже часто нецензурными прозвищами. А в этом законе собственного изделия была, несомненно, тень некоторого рыцарства.
Однако Александров все-таки не удержался от нарушения юнкерского обычая. За уроком гимнастики, работая на параллельных брусьях, он успел шепнуть Венсану:
— Голубчик Венсан, достаньте мне какую-нибудь книжку из ротной библиотеки и передайте через сторожа… Ужасная тоска.
— Постараюсь, — сказал Венсан и быстро отошел прочь.
И, правда: бедный Александров изнывал от скуки, безделья и унижения. Вчера еще триумфатор, гордость училища, молодой, блестяще начинающий писатель — он нынче только наказанный жалкий фараон, уныло снующий взад и вперед на пространстве в шесть квадратных аршин. Иногда, ложась на деревянные нары и глядя в высокий потолок, Александров пробовал восстановить в памяти слово за словом весь текст своей прекрасной сюиты «Последний дебют». И вдруг ему приходило в голову ядовитое сомнение: «А, в сущности, ведь, пожалуй, такое заглавие: “Последний дебют”, может показаться неточным и даже нелепым. Дебют — ведь это начало, как и в шахматах, это — первое, пробное выступление артистки, а у меня актриса Торова-Монская (фу, и фамилия-то какая-то надуманная и неестественная), у меня она, по рассказу, имеет и большой опыт, и известное имя. Первый дебют — это и понятно, и приемлемо и для читателей. Название же “Последний дебют” вызывает невольное недоумение. Можно подумать, что моя все-таки уже не очень молодая героиня только и знала в своей актерской жизни, что дебютировала и дебютировала и всегда неудачно, пока не додебютировалась до самоубийства…»