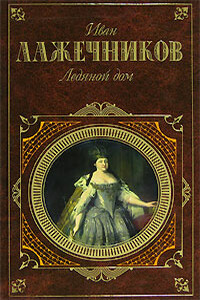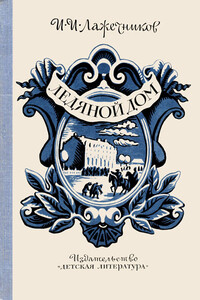Беленькие, черненькие и серенькие - страница 20
Кибитка подъехала к чистому крылечку, устланному соломой. На нём старушка с добродушным лицом встретила приезжих и осветила им дорогу фонарём. Горенка, в которую они вошли, напитанная смоляным запахом от стен, только перелетовавших[127], была чистая и тёплая; свет от лампады, теплившейся перед иконами, обдал их каким-то благодатным чувством. Первым делом Прасковьи Михайловны было броситься на колени и со слезами благодарить Господа за спасение её с сыном; Ваня сделал то же по её приказанию. Она была бледна, но скоро оправилась и за самоваром почти забыла только что минувшую беду.
Вошёл ямщик, сердитый, угрюмый, почесал голову и с досадой бросил свою шапку на залавок[128].
— Ну, барыня, — сказал он, — крепко обидела ты меня… поусумнилась во мне…
— Прости мне, голубчик мой, — перебила Прасковья Михайловна, — не в своём разуме была… сам посуди, возле меня дитя… один только и есть… ведь и у тебя, чай, дети.
И слёзы помутили глаза молодой женщины.
— Кабы не этот мальчуган, не бессудь — закаялся бы во веки веков возить тебя по дорогам. Ну, да ты добрая барыня (тут ямщик махнул рукой); на тебя и зла нет!.. А всё-таки лошадок полечить надо, да и мне не худо отвесть душу.
Прасковья Михайловна вынула из кошелька, висевшего у ней на груди, два империала из Ваниных денег и отдала их ямщику. Мальчик знал, что эти деньги ему подарены, и весело смотрел, как отдавали их.
— А что лошадки, не больно ли ушиблись? — спросила она.
— Благо разбойничья жердь пришла в упор хомутам…[129] царапины есть на всех, одна похрамывает… да Бог не без милости!.. А коли зачахнут, знаю, не обидишь меня. Пшеницыны по Холодне первые люди, а ты краля холоденская.
— Вот тебе Господь свидетель (и она указала на образ), если случится беда какая, приходи ко мне прямо… я поставлю тебе тройку таких же лихих лошадей. А для чего вырвал ты у меня топор? — прибавила Прасковья Михайловна.
— Неравно померещилась бы тебе невесть какая напасть… у страха глаза велики, бес лукав… да пришла бы тебе блажь хватить меня топором. Убить бы не убила… где тебе!.. а шкуру бы попортила. Вот тут уж разбойнички сделали бы своё дело.
Расхохоталась молодая женщина, и мир был заключён.
В Островцах она давала как-то в долг богатому мужику на свадьбу двадцать пять рублей. Обещался отдать через неделю; божился всеми угодниками, клялся и детьми и утробой своей. Прошло месяца два. Теперь был случай получить деньги. Но много труда и ходьбы взад и вперёд стоило Ларивону, чтобы вытянуть эти деньги. Да и тут должник, отдавая их Прасковье Михайловне, вместо благодарности почесал себе голову и примолвил: «А что ж, барыня? Надо бы на водку».
Приехали в Холодню, в старый, бедный домик. Казалось, после поездки в Москву, он сделался ещё древнее и сумрачнее, ещё более наросло на него моху, который выступил из-под снега, уже много сбежавшего. Но вскоре возвратился из своих странствований Максим Ильич. Свидание молодых супругов было самое нежное. Прасковья Михайловна рассказала мужу, с каким успехом съездила она в Москву и какому страху подвергалась на возвратном пути в Волчьих Воротах. В свою очередь, муж рассказал ей, как за несколько лет тому назад, в плавание его с караваном судов по Волге, в Кос-ой губернии, напала на него шайка разбойников, а атаманом у них был князь К-ий[130]. Этот князь имел дом, в виде замка с башнями, на берегу реки, и занимался с своею дворнею грабежом проходящих судов. Молодой Пшеницын отделался от него страхом и несколькими сотнями рублей.>{3}
Место под новый дом тотчас было куплено, спешно началась заготовка под него материалов. Оно занимало почти целый квартал и выходило на три улицы. Было где разгуляться капиталам Ильи Максимовича! Закипела работа и в марте. Потянулись к пустырю целые обозы с лесом, камнем и кирпичом; застучали сотни топоров, ломы начали шевелить остов одряхлевшего, давно необитаемого дома; с писком и криком высыпали из него стаи встревоженных нетопырей[131] и галок. Эта постройка составила важную эпоху в городе, едва ли не равную с построением кремля. Толпы народа ходили глазеть на неё, как на необыкновенное зрелище. Каждый толковал о ней по-своему; домостроительным фантазиям этих прожектёров не было конца. Иной возводил здание едва ли не с Ивана Великого, другой вытягивал его сплошь на все три улицы