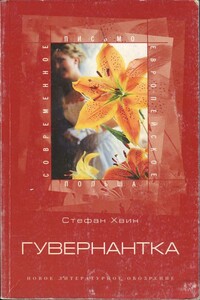Ферейен медленно выздоравливал на чердаке маленького лейденского домика. Ухаживала за ним сама хозяйка. Что ж, кабы не она, кто знает, чем бы все закончилось. Ибо пациент впал в уныние — трудно сказать, из-за непрестанных ли болей в затягивавшейся ране или из-за своего состояния в целом. Ведь в двадцать восемь лет он оказался калекой, учеба на теологическом факультете потеряла смысл: без ноги он все равно не мог стать священнослужителем. Филипп не позволил известить о случившемся родителей, стыдясь, что не оправдал их надежд. Его навещали Дирк и двое его коллег, привлеченных — кажется — скорее отрезанной конечностью, стоявшей в сосуде у изголовья кровати, нежели страданиями самого больного. Казалось, этот кусок человеческого тела живет теперь самостоятельной жизнью анатомического препарата — погруженный в алкоголь, в вечном дурмане видя собственные сны о пробежках, утренней росе, теплом песке на берегу. Заходили еще студенты-теологи, и в конце концов Филипп объявил им, что в университет не вернется.
Когда гости уходили, в комнате Филиппа появлялась хозяйка — вдова, госпожа Флер, с которой я был знаком и которую считаю ангелом во плоти. Филипп прожил у нее еще несколько лет, пока не купил дом в Рейнсбурге. Вдова приносила таз и медный кувшин с теплой водой. Хотя температура у пациента уже упала, а рана не кровоточила, женщина осторожно обмывала ногу и помогала Филиппу привести себя в порядок. Затем переодевала его в чистую рубашку и штаны. Левые штанины всех его брюк она предусмотрительно зашила еще раньше, а все, чего госпожа Флер касалась своими искусными ручками, начинало выглядеть естественным и правильным, словно таким и было сотворено Господом — словно Филипп Ферейен так и родился, с одной правой ногой. Когда ему требовалось встать, чтобы справить нужду в ночной горшок, он опирался на крепкую руку вдовы — сперва это ужасно его смущало, но со временем также стало казаться естественным и правильным, как все, что было связано с этой женщиной. Спустя несколько недель Филипп с ее помощью уже спускался на первый этаж, в кухню, где усаживался за громоздкий деревянный стол вместе с хозяйкой и двумя ее детьми. Вдова была высокого роста, хорошо сложена. Светлые густые вьющиеся волосы она, как и большинство фламандок, убирала под полотняный чепец, но какая-нибудь упрямая прядка обязательно выбивалась — спереди или сзади. Подозреваю, что ночью, когда дети уже спали невинным сном, вдова снова навещала Филиппа и забиралась к нему в постель. И не вижу в этом ничего предосудительного, ибо считаю, что люди должны поддерживать друг друга, как только могут.
Осенью, когда рана уже совершенно затянулась, а на культе осталась лишь едва заметная краснота, Филипп Ферейен начал изучать анатомию и, постукивая деревяшкой по неровной лейденской мостовой, каждое утро шагал на лекции в университетский медицинский центр.
Вскоре Филипп прослыл одним из самых талантливых студентов:: как никто другой, он умел использовать свой талант рисовальщика для перенесения на бумагу того, что поверхностному взгляду непрофессионала представлялось хаосом тканей человеческого тела — сухожилий, кровеносных сосудов и нервов. Он начал копировать знаменитый столетний анатомический атлас Везалия и справился с этой задачей блестяще. Это стало прекрасной преамбулой к его собственной работе, результаты которой принесли ему славу. Ко множеству своих учеников, к числу которых причисляю себя и я, он относился по-отечески — любовно-взыскательно. Мы проводили под его присмотром вскрытия, и внимательный взгляд и умелые руки Филиппа вели нас по тропам этого сложнейшего лабиринта. Студенты ценили его упорство и поистине энциклопедические знания. Они завороженно следили за стремительными движениями грифеля. Рисование ведь никогда не является простым воспроизведением: чтобы увидеть, нужно уметь смотреть — видеть то, на что смотришь.
Филипп вообще был достаточно молчалив, а сегодня, спустя годы, я бы даже сказал, что вид у него всегда был слегка отсутствующий, он словно бы прислушивался к чему-то внутри себя. Постепенно Ферейен отказался от чтения лекций, все больше углубляясь в работу в своей лаборатории. Я часто навещал его в Рейнсбурге. С радостью пересказывал городские новости, университетские сплетни и происшествия и с тревогой замечал, что мысли учителя все более занимает одна-единственная тема. Нога, разобранная на составные части, исследованная самым тщательным образом, всегда стояла у изголовья кровати в своей банке или пугала гостей, распяленная на столе. Обнаружив, что кроме меня Филипп ни с кем не общается, я понял: мой учитель безвозвратно перешагнул незримую границу.