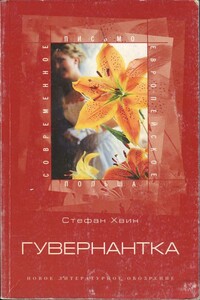начал бас, Луиджи Лаблаш, так нежно и тепло, что Людвика немного успокоилась.
Затем вступили из-за ширмы тенор и альт:
Mors stupebit et natura,
Cum resurget creatura,
Judicanti responsura.
Liber scriptus proferetur,
In quo totum continetur,
Unde mundus judicetur.
Judex ergo cum sedebit,
Quidquid latet apparebit:
Nil inultum remanebit
[118].
И наконец Людвика услышала возносящийся к куполу чистый голос Грациеллы — точно фейерверк, обнажение искалеченной ноги, ничем не прикрытой правды. Грациелла пела лучше всех, это было совершенно очевидно, и ширма лишь немного заглушала ее голос. Людвика представляла себе миниатюрную итальянку такой, какой видела ее на репетициях: взволнованная, натянутая, как струна — голова обращена к сводам церкви, вены на шее набухли — Грациелла издает эти волшебные звуки, поет кристально-прозрачно, и никакая ширма, никакая нога не могут ей помешать, и будь проклят этот чертов мир:
Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus…
[119]За какие-нибудь полчаса до границы с Познанским княжеством[120] дилижанс остановился возле трактира. Сперва путешественницы освежились и немного подкрепились — поели холодного запеченного мяса, хлеба и фруктов, — а затем отошли в сторону и, подобно другим пассажирам, скрылись в придорожных зарослях. Полюбовавшись цветами и перелесками, Людвика извлекла из корзины большую банку с коричневой мышцей и поместила ее в хитроумную конструкцию из ремешков на высоте лона. Анеля тщательно привязала их концы к каркасу кринолина. Людвика опустила платье, и теперь уже невозможно было догадаться, что под ним скрыта такая драгоценность. Людвика повернулась туда-сюда, махнула подолом и направилась к экипажу.
— Далеко с этим не уйдешь, — заметила она своей спутнице. — По ногам бьет.
Но далеко идти и не требовалось. Людвика уселась на свое место — прямо, возможно, чересчур прямо, но ведь она была дамой, сестрой Фридерика Шопена. Полькой.
На границе прусские жандармы велели женщинам выйти из экипажа и принялись тщательно проверять, не провозят ли те в Царство Польское[121] нечто могущее разжечь тлеющие в польском обществе вольнолюбивые настроения, — но, разумеется, ничего не обнаружили.
По другую сторону границы, в Калише[122], уже ждал экипаж из Варшавы и несколько друзей, свидетелей печальной церемонии. В черных фраках и высоких шляпах они выстроились в два ряда, бледные печальные лица с трепетом обращались к каждому вынимаемому свертку. При помощи ловкой Анели Людвике удалось на мгновение удалиться и незаметно извлечь банку из теплого нутра платья. Нырнув в кружева, Анеля осторожно вынула сосуд и подала Людвике жестом, каким подают матери новорожденного. Людвика расплакалась.
В сопровождении нескольких экипажей сердце Шопена прибыло в столицу.
Цель паломничества — другой паломник. На сей раз разобранный на части, разложенный на дубовых полках, над которыми реет красивая, каллиграфически выведенная надпись:
Еminet in Minimus
Maximus Ille Deus[123].
Здесь собраны так называемые сухие препараты[124] внутренних органов. Часть тела или орган очищают, затем набивают хлопковой ватой и высушивают. После этого поверхность покрывают лаком — таким же, каким пользуются художники. Эту процедуру повторяют несколько раз. Потом вынимают вату и покрывают лаком внутреннюю поверхность препарата.
Увы, лак не уберегает ткани от старения, поэтому со временем все сухие препараты приобретают схожий цвет — буро-коричневый.
Вот, например, прекрасно сохранившийся человеческий желудок, увеличенный, шарообразный, тончайший, словно сделанный из пергамена, дальше кишки, тонкая и толстая, — интересно, какие деликатесы перерабатывала эта пищеварительная система, сколько прошло через нее животных, просыпалось семян, прокатилось фруктов.
Рядом — гратис[125] — публика могла также полюбоваться на черепаший пенис и дельфинью почку.