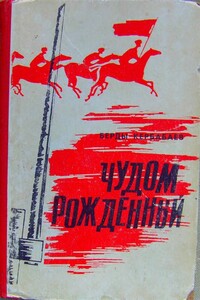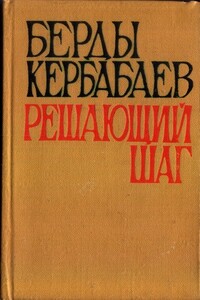—Не дам прижигать! — выкрикнул он.
Мать попыталась уговорить сына: ей было и жаль причинять ему страдания, и в тоже время она не могла обидеть знахарку, в лечебную силу которой слепо верила.
—Не срамись, Батыр, — сказал она. — Ты уже настоящий мужчина! Долг больного — выполнять советы знахарей. Я прошу тебя!
Ни один мускул не дрогнул на лице старой Боссан: она давно привыкла к подобным сценам. Опыт ей подсказывал, что всё будет так, как считает нужным она. После криков, слёз и упрёков дело пойдёт своим чередом, свершится то, что должно было свершиться с самого начала.
—Нет лучше лекарства, чем огонь, — равнодушно произнесла знахарка, разглядывая свои сухие, сморщенные руки. — Недаром говорится: в огне зло не держится...
— Не дамся! — кричал Батыр. — Не трогайте меня!
Дурсун чуть не плакала от жалости к сыну; сердце её, казалось, было готово разорваться от его крика и слёз. Она протягивала к Батыру руки и дрожащим голосом умоляла:
—Пойми же, Батыр, тебе не хотят зла! Под словом «прижечь» Боссан-эдже понимает — отпугнуть твою болезнь. Тебе сразу станет легче. Разве я соглашусь, чтобы хоть одна колючка без нужды вонзилась в твоё тело?
Но Батыр упрямо твердил:
—Не дамся! Не трогайте меня!
Тогда старая знахарка с усмешкой спросила:
—Скажи, Дурсун, как зовут твоего сына?
—Вы же знаете: Батыр!1
— Хорошее имя, но он его не оправдывает. Какой же он «храбрый», если у него заячье сердце?
Однако и эти слова не возымели действия на Батыра.
—Храбрый я или трус, но я не стал бы прижигать тело живому человеку, как ты! — выкрикнул он.
Дурсун поспешно закрыла ладонью сыну рот. Больше всего она боялась, что знахарка разгневается и уйдёт. Уйдёт — и тогда Батыр останется без помощи, будет болеть по-прежнему.
— Я готова отдать за тебя жизнь, а ты такой непослушный! — укоряла она сына. — С таким трудом я уговорила Боссан-эдже полечить тебя, а ты вместо того, чтобы слушаться, говоришь грубости и злишь её. Плохо же воспитывают вас учите-
ля в школе, если ты стал такой капризный и упрямый! Разве отец и мать тебе плохого желают? Ты мог бы в свои годы быть уже сознательнее...
Отец Батыра, Аннамурад, молча сидел на кошме и курил трубку. Он не вмешивался. Но, видно, отцу стало жаль сына, а скорее всего, ему наскучила эта бесцельная перебранка, и он подал голос:
—Хватит вам приставать к мальчику!
Дурсун тут же напустилась на мужа:
—Тебе что! Ты сидишь себе да покуриваешь и горя не знаешь! Если бы ты был путёвым человеком да хорошим мужем, мне не пришлось бы переносить столько мучений из-за болезни мальчика.
Аннамурад покосился на расходившуюся Дурсун, но ничего не сказал. Он опустил на грудь голову и молча стал что-то выковыривать из кошмы. Батыр заступился за отца.
—Ты никому не даёшь слова сказать! — всхлипывая, вымолвил он. — Чем только ты меня не поила... Ты слушаешь советы каждого случайного прохожего и скоро доведёшь меня до могилы. Нас в школе учат не верить никаким знахарям — все они обманщики, и я не дам, не дам прижигать!
Сильная боль, резанувшая поясницу, заставила Батыра замолчать. Он скорчился на постели. Лицо его побледнело, на лбу выступил пот.
Дурсун бросилась к сыну, но дорогу ей преградила знахарка.
—Говорят: куда приглашают — не избегай, где не уважили — не показывайся, — прошипела она. — Звали — пришла, не уважили — ухожу!
Глаза Дурсун застлал туман, по щекам поползли слёзы. Она хотела что-то сказать старухе, но ей помешал горький комок, вставший поперёк горла. Женщина пошатнулась и стала медленно оседать на пол. Знахарка поддержала её под руки.
Отец Батыра поднял голову, посмотрел на жену и знахарку долгим взглядом и снова ничего не сказал.
II
Кибитка, в которой ютилась семья Аннамурада, была старой и ветхой. Она переходила из рода в род и всё больше разрушалась.
Деревянные колки покривились, стали совсем чёрными от копоти. Перекладины основания кибитки давно сломались во многих местах, и сквозь них можно было свободно пролезть. В довершение всего, войлочный полог, несмотря на бесчисленные заплаты, имел столько дыр и щелей, что, когда шёл дождь, не было разницы, находишься ли ты в кибитке или на улице.