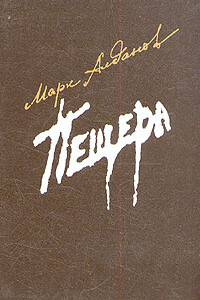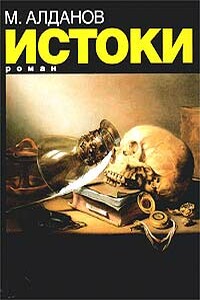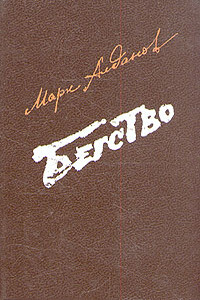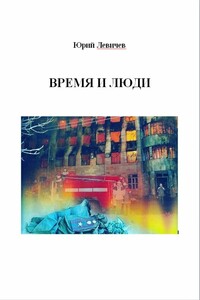Точно такие же сценки мне пришлось увидеть в Петербурге в октябрьские дни: в части города, несколько отдаленной от места исторических событий, шла самая обыкновенная жизнь, мало отличавшаяся от обычной. Не уверен, что исторические события так уж волновали 25 октября лавочников, приказчиков, извозчиков, кухарок, то есть, в сущности, большинство городского населения. Результаты они на себе почувствовали лишь позднее. Для парижских обывателей события 1793—1794 годов были прежде всего борьбою политиков. Конечно, на эшафот мог угодить и человек, никакой политикой не занимавшийся. Таких случаев было много. Все же они составляли исключение.
Как ни странно, вначале жизнь в Париже изменилась не очень сильно. Правда, вскоре после взятия Бастилии началась эмиграция. За две недели было получено богатыми людьми свыше шести тысяч заграничных паспортов. Стали уезжать иностранцы. В 1791 году в Париже остались три англичанина. Однако светская жизнь продолжалась. «Салонов» оказалось больше, чем было до революции. У каждого видного политического деятеля был свой салон. Или, вернее, у каждого салона был свой политический деятель. В существующем и поныне доме на улице Отэй принимал Сиейес; были салоны Неккера, Мирабо, позднее Верньо. Почему-то увеличилось число дуэлей; некоторые из них кончались смертью. Очень размножились игорные дома; из них самый «шикарный» был в Пале-Руаяле; содержал его Дюмулен, бывший лакей госпожи Дюбарри. Игра велась очень крупная: на десятки тысяч луидоров.
Немногое изменилось вначале и в жизни средних и низших классов. Новый быт сказывался, правда, в мелочах. Появились, например, тарелки с надписями «Да здравствует свобода» или «Нация, Закон, Король», столики с выгравированной на доске Декларацией прав, пресс-папье из камней Бастилии, игральные карты с изображением революционных деятелей. В коллекции профессора Олара было прелестное приглашение на похороны, отпечатанное на трехцветной бумаге. Все это вначале очень занимало парижан.
Затем пошли переименования. Они всегда неудобны для городских жителей, особенно для торговцев. Впоследствии большая часть улиц вернулась к прежнему наименованию; но некоторые, как, например, рю де Лилль, сохранили новое по сей день: против города Лилля ничего не могли иметь ни наполеоновская империя, ни монархия Бурбонов, ни Третья республика. Стали по-новому называть младенцев, заодно переменили имя и многие взрослые люди. Как известно, появились в большом числе «Бруты», «Сцеволы», «Эпаминонды». Были и желающие назвать себя именами популярных революционных деятелей. Так, один молодой офицерик назвал себя «Маратом» и, хоть пробыл в Маратах недолго, позднее не любил об этом вспоминать, ибо стал королем: это был Мюрат. Пользовались успехом и имена идейные, отвлеченные. Министр Лебрен, у которого вскоре после победы при Жемапе родилась дочь, назвал ее «Цивилизация Жемап-Победа». Гораздо менее известно, что якобинцы старались ввести в моду имена, «близкие к растительной и животной природе». Эта мода не привилась. Можно было назвать дочь «Цивилизацией», но называть ее «Коровой» или «Салатом» парижанин решительно не желал (хоть еще до 1795 года были во Франции и «Ваши», и «Рюбарбы», и «Каротты»){3}.
А главное — хлеб! Он все же гораздо важнее зрелищ. Такого голода, какой был в России в первые годы революции, Франция не знала. В 1789—1790 годах о голоде не было речи. Богатые люди еще жили почти так, как до падения Бастилии. Был в ту пору в Париже гастроном Гримо де ла Реньер, сын богатейшего откупщика, владелец знаменитого, снесенного несколько лет тому назад особняка на Плас де ла Конкорд, на месте которого теперь воздвигнуто здание посольства Соединенных Штатов. Он написал несколько курьезнейших книг, дающих полную гастрономическую картину конца XVIII и начала XIX столетия. Гримо де ла Реньер только с гастрономической точки зрения расценивал и политические события, и политических деятелей, в том числе и революционных{4}. Эпоху Людовика XIV он не очень жаловал: сказочному аппетиту короля-солнца почтительно отдавал должное, но говорил, что от всей эпохи останется только одно большое имя — имя маркиза Бешамеля (изобретателя известного соуса). Лучшей эпохой французской истории считал царствование Людовика XV: тогда «было изобретено все главное». Надо ли говорить, что Гримо де ля Реньер совершенно презирал революцию. «В одном я уверен совершенно: пулярка Монморанси переживет их всех, вместе со всеми их идеями!» Не любил он и Наполеона, мало интересовавшегося едой, но отдавал должное императору: при нем, по крайней мере, опять можно есть по-человечески и вдобавок не надо переименовывать блюда (как на беду, много хороших блюд изобрели лица контрреволюционные и титулованные: суп Ксавье изобрел Monsieur, брат короля, суп Конде — принц Конде, бабку — Станислав Лещинский, слоеный пирог волован — маркиз де Нель, «отказавшийся от герцогского титула, чтобы остаться первым из маркизов»). У Гримо де ла Реньера еще в начале революции подавалось к обеду шестьдесят блюд, — он говорил, что после сорокового блюда «искусство повара должно быть особенно велико, так как аппетит обедающих начинает уменьшаться». Добавлю, что он терпеть не мог разговаривать за едой и негодовал: появилась такая мода, чтобы вместо обеда угощать гостей разговорами. «Да я к самому Вольтеру ни за что не пошел бы в гости без хорошего обеда: хороший обед — признак дружеского расположения»