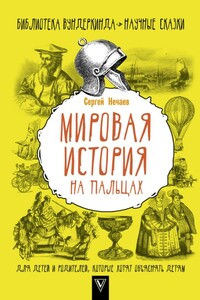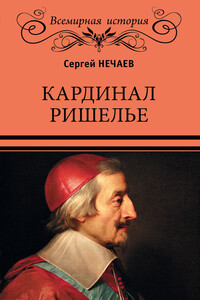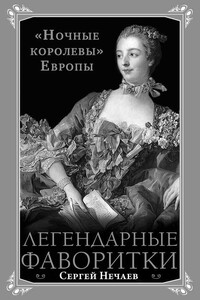В связи с тем что западная граница оставалась практически без прикрытия, 19 (31) марта 1812 года последовало высочайшее повеление о составлении из всех войск, собранных в западных губерниях, двух армий. Одна из них, получившая название 1-й Западной, была вверена самому Барклаю-де-Толли, а другая, названная 2-й Западной, — князю Багратиону. Оба главнокомандующих были облечены равной властью, но Барклай-де-Толли, как военный министр, мог передавать Багратиону приказания именем императора.
3-я Резервная (Обсервационная) армия была сформирована в апреле и поступила под командование генерала от кавалерии А. П. Тормасова.
Однако следует отметить, что, помимо плана Барклая-де-Толли, существовало еще не менее трех десятков проектов ведения будущей войны против Наполеона, исходивших как от русских генералов, так и от иностранцев. В частности, наступательный проект предлагал князь Багратион, которого «захлестывали обида и стыд от самой мысли об отступлении» [5. С. 447].
При этом «некоторые русские участники войны и историки, условно говоря, “недруги Барклая”, полагали, что у российского командования не было заранее продуманного замысла отступления, каковое, по их мнению, осуществлялось стихийно, на ощупь, под давлением обстоятельств» [114. С. 36].
* * *
На самом же деле идея «скифской войны» родилась задолго до 1812 года, и впервые она была выдвинута именно Барклаем-де-Толли. На этот факт обращают внимание ряд весьма уважаемых авторов. Например, А. И. Попов пишет:
«Очевидно, что русское командование заранее предполагало применить “скифскую тактику” — об этом говорят все распоряжения Барклая перед войной и в самом ее начале» [114. С. 39].
Генерал М. И. Богданович считал:
«Весьма неосновательно мнение — будто бы действия русских армий в первую половину кампании 1812 года, от вторжения Наполеона в пределы России до занятия французами Москвы, ведены были без всякого определенного плана. <…> Не подлежит сомнению… что план отступления наших армий внутрь страны принадлежит не одним иностранцам… <…> и что главный исполнитель этого соображения, Барклай-де-Толли, сам составил его задолго до войны 1812 года» [19. С. 93–94].
Богданович пишет о Барклае-де-Толли:
«Давно уже он уверен был в необходимости отступать для ослабления неприятельской армии, и это убедительно доказывается словами, им сказанными знаменитому историку Нибуру в то время, когда Барклай, будучи ранен в сражении при Прейсиш-Эйлау 1807 года, лежал на одре болезни в Мемеле. “Если бы мне довелось воевать против Наполеона в звании главнокомандующего, — говорил тогда Барклай, — то я избегал бы генерального сражения и отступал до тех пор, пока французы нашли бы, вместо решительной победы, другую Полтаву”.
Нибур тогда же довел слова Барклая-де-Толли до сведения прусского министра Штейна, который сообщил их генералу Кнезебеку, а Кнезебек — Вольцогену и Фулю» [19. С. 104].
Отметим, что прусский министр Штейн — это Генрих-Фридрих-Карл фон Штейн (1757–1831), министр торговли, промышленности и финансов в кабинете короля Фридриха-Вильгельма III, возглавивший в октябре 1807 года прусское правительство. Генерал Кнезебек — это Карл-Фридрих фон Кнезебек (1768–1848), который во время войны 1806–1807 годов состоял при главной квартире русской армии. Соответственно, Людвиг фон Вольцоген (1774–1845) и Карл Фуль (1757–1826) — это тоже были прусские генералы на русской службе.
Свидетельство М. И. Богдановича имеет принципиальное значение, и есть смысл разобраться, откуда авторитетный военный историк взял эту информацию. Сам он ссылается на «Мемуары» французского генерала Дюма, опубликованные в Париже в 1839 году.
Гийом-Матьё Дюма, родившийся в 1753 году, был потомственным дворянином. В феврале 1805 года он получил чин дивизионного генерала, участвовал в сражениях при Ульме и Аустерлице, в марте 1806 года стал военным министром при Неаполитанском короле Жозефе Бонапарте, а когда тот занял испанский престол, вместе с ним покинул Неаполь и в июле 1807 года стал военным министром Испании.
Как видим, генерал Дюма был человеком весьма серьезным, и допустить какую-то непроверенную информацию из его уст крайне сложно. Вот, дословно, что он пишет в своих «Мемуарах»: