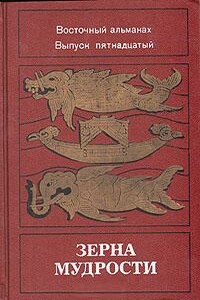В ту ночь я не ложился спать и просидел в чайной у Османа, по соседству от нашего дома. Посетители играли в карты и были радостно возбуждены. Рядом с ними лежали разные мелкие подарки, заранее приобретенные к празднику… Накануне днем Осман, глядя на меня сквозь призму стаканчика с чаем, спросил:
— Махмуд, где же Салем?
— В море, — рассеянно ответил я ему, бросая карту на стол.
Мне кажется, я вновь слышу голос Османа, с ухмылкой провожающего глазами струйку пара:
— О всемогущий аллах! Он что, работает даже по праздникам?
Я снова почти физически ощущаю эти мгновения, словно кто-то ударяет меня ножом в спину… Сколько раз Салем, снисходительно поглядывая на меня и шутливо теребя меня за ухо, говорил:
— Ты уже совсем взрослый мужчина, Махмуд…
И мать тут же спешила мне на помощь, по-женски протяжно произнося:
— Ради аллаха, оставь его в покое…
Подходя к нашему дому в один из последних дней рамадана[13], я неожиданно остро почувствовал, как много Салем значит для меня… Накануне праздника он купил мне новый костюм, младший брат получил множество игрушек, а матери Салем обещал устроить хаджж[14].
Перекинув через плечо свою сумку и уже выходя из дома, Салем тогда с улыбкой шепнул мне:
— Будь осторожнее на улице. Уже поздно…
И сейчас сквозь сон я чувствую, как шипящая морская пена лижет его сильные руки, добывающие для нас кусок хлеба.
В те дни в нашем доме стоял один лишь деревянный зеленый сундук с медными украшениями и с замком, снабженным колокольчиком. Моя мать всегда бережно хранила этот сундук и складывала в его деревянное чрево самые ценные вещи. Самым дорогим сокровищем в то время для нее был праздничный костюм, который Салем купил себе в конце месяца рамадана: серые, тщательно отутюженные брюки, белая рубашка с отложным воротничком и черные лакированные ботинки.
Той ночью, перед самым рассветом, я увидел, как мать коснулась звонкого колокольчика и ласково положила руку на нарядный костюм Салема. Она бросила на него цветочные лепестки и едва слышно пробормотала какие-то слова. Мой же костюм и одежда малыша были небрежно брошены на пол.
Все жили ожиданием праздника, а я думал только о том, когда же мать положит и мой костюм в полупустой сундук с колокольчиком.
Почти на исходе той ночи я, улыбаясь, вошел в дом с красными от бессонницы глазами и беззаботно бросил матери:
— Счастливого года тебе…
Старуха мать подняла на меня глаза, тяжелые веки не могли скрыть ее тоскливого взгляда:
— Что-то случилось с Салемом, Махмуд…
— Скоро вернется. Ты что, боишься за за него?! — раздраженно бросил я, поглядывая то на зеленый сундук, то на свою одежду, валявшуюся на полу.
Мать с усилием подавила тяжелый вздох, рвавшийся из ее груди. Засыпая, я почувствовал, как ее вздохи, словно тонкое лезвие кинжала, пронзают мое сердце, и это лезвие становилось все шире… Меня разбудил непонятный шум у двери нашего дома и душераздирающие вопли матери. Малыш сидел в дальнем углу комнаты, протирая глаза и стараясь понять, что происходит.
Салема уже положили в комнате, и он грустно смотрел на меня своими выпуклыми глазами, как бы прося прощения за нарушенный праздник. Коричневое лицо его сжалось и было неузнаваемым. Живот Салема показался мне огромной дыбящейся волной. На его босых ногах чернели ногти. Слипшиеся зеленые травинки застряли у него между пальцами.
Крики старухи прерывались причитаниями соседей, с нетерпением ждавших прихода праздника:
— О благословенная ночь аллаха!
— Что-нибудь случилось? Это невыносимо!
— У них перевернулась лодка. О аллах всемогущий!
Взгляд Салема застыл на потолке, но мне казалось, что в них мольба о прощении за испорченный праздник.
С того дня каждый год праздник для нашей семьи тонул в слезах. Зеленый сундук с желтыми медными украшениями был заперт навечно. Ключ от него спрятался в складках старой накидки матери, а в его умолкнувшем пустом чреве печально покоился праздничный костюм Салема.
Все, что в ту ночь осталось нам от Салема, — это его старая, засаленная сумка серого цвета. Его одежда пропиталась запахом рыбы, а в доме застоялся воздух бушующего моря. Остекленевшие глаза Салема, каждая морщинка на его лице и раздувшийся, словно вздыбленная волна, живот, казалось, просили нас о чем-то.