— Я же предупредил тебя.
— О чем?!
— Что ты один не тронешься. Умом.
— Знаешь что?! — Шаланда встал, резко отодвинул стул, поддал ногой еще один, который оказался у него на дороге, с грохотом распахнул окно. Казалось, шумными звуками он разгонял тени из загробного мира, которые скопились, скопились у него в кабинете и мешали свободно дышать. — Я твоего Худолея, как ты знаешь, не очень люблю... Но теперь я его ненавижу!
— Вам просто надо выпить как-нибудь, а? Вы оба хорошие ребята, только в разных весовых категориях. Вот и все. Если бы ты знал, с каким уважением он отзывается о тебе!
— Худолей?! Обо мне?! — с гневом спросил Шаланда, но уловил хитроумный Пафнутьев, уловил все-таки слабую, почти неслышную нотку детского удивления и зарождающейся признательности. — А что он во мне такого увидел?
— Жора, должен тебе сказать, что Худолей — чрезвычайно проницательный человек. Он видит суть. Ну, да ты большой, шумный, крупный руководитель, у тебя в подчинении сотни людей... А знаешь, что сказал Худолей?
— Ну? — чуть слышно выдохнул Шаланда.
— Георгий Георгиевич, говорит он, человек необыкновенно тонкой душевной организации. У него, говорит, интуиция просто потрясающая. Мы с тобой, это он мне говорит, месяц бьемся, как мухи в стекло, и когда наконец у нас намечается просвет, когда мы только начнем понимать случившееся... Ты вспомни, Паша, что говорил нам Георгий Георгиевич месяц назад!
— Он называет меня Георгием Георгиевичем? — недоверчиво спросил Шаланда.
— Исключительно. Только так. Так вот, говорит, ты вспомни, что месяц назад на месте преступления сказал нам Георгий Георгиевич... Он уже тогда указал нам правильный путь поисков. Не знаю, Жора, не знаю, — плел свою интригу Пафнутьев, — может быть, тебе эти слова и не понравятся, но сказал мне однажды Худо-лей, имея в виду тебя... Если бы, говорит, Георгий Георгиевич получил другое образование, он мог бы стать великим музыкантом. Или художником. У него, говорит, слух просто абсолютный. Помнишь, ты как-то в машине запел по пьянке? А он услышал.
— И так сказал? — спросил Шаланда надтреснутым голосом. — Он так сказал?
— Жора, он очень проницательный человек.
— А от тебя, Паша, между прочим, я никогда доброго слова не слышал. И знаешь, вот сейчас меня осенило, — ведь и не услышу никогда от тебя доброго слова. Разве что над свежей могилой, — Шаланда отвернулся к окну и осторожно, одним пальцем, смахнул набежавшую слезу. — Значит, не сказал, кто будет пятым?
— Жора, если бы это был ты... Он наверняка бы сказал. Сам бы ушел в могилу, но тебя предупредил.
Шаланда еще некоторое время постоял у окна, подождал, пока просохнет на щеке предательская слеза, и только после этого хмуро прошел к своему столу.
— Будешь говорить с Вулыхом?
— Хотелось бы.
— Мне выйти?
— Как хочешь.
— Понял, — обиженно сказал Шаланда. — Мне надо выйти.
— Ты ведь уже с ним беседовал, — извиняясь, сказал Пафнутьев. — Нового ничего не услышишь, а он может тебя испугаться.
— Конечно, меня можно только пугаться. — Шаланда вышел из кабинета, с силой бросив за собой дверь, и минут через пять вошел Вулых. Остановился у порога, обернулся на стук закрываемой за его спиной двери, увидев Пафнутьева, чуть поклонился.
— Здравствуйте вам, — сказал он, скрестив руки внизу. — Вот и свиделись.
— Никуда нам друг от друга не деться. Садись, Васыль, заскучал я по тебе. Ушел, не попрощавшись, хотя обещал не уходить. Нехорошо. Мужики так не поступают.
— Пришлось, — осторожно ступая по ковровой дорожке, Вулых прошел на середину кабинета, потоптался в растерянности, не зная, на каком стуле он будет выглядеть наименее вызывающе, на какой ему можно присесть.
— Выбирай любой, — сказал Пафнутьев. — Кабинет не мой, позволили нам побыть здесь, значит, можем располагаться, как самим хочется. Согласен?
— Я теперь со всем согласен. Меня можно и не спрашивать. Был человек — нет человека. Одно только название — и ничего больше. Нет меня уже на этом свете. Кончился. Вышел весь без остатка.
— Так, — кивнул Пафнутьев, — понял. Значит, хочешь, чтобы и тебя в трупы записали, да? Пятым хочешь быть?





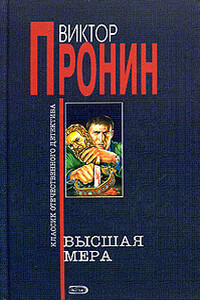


![Расследования Берковича 7 [сборник]](/uploads/books/images/05/059fed21cdd463f4fb84a9fb7798bea05096f86d.jpg)
![Расследования Берковича 11 [сборник]](/uploads/books/images/b4/b4d1bcadf8f8da8bb22e7a1f6b21939ba9e28efb.jpg)
![Расследования Берковича 12 [сборник]](/uploads/books/images/19/19139da6ccfbb4bfe1a543141cd4ea265631da79.jpg)
![Расследования Берковича 9 [сборник]](/uploads/books/images/66/669e677c3840e37f130f6b5c3f11e9adef03d3f3.jpg)