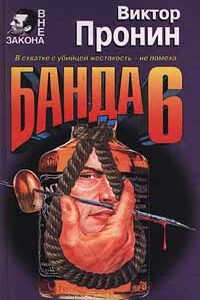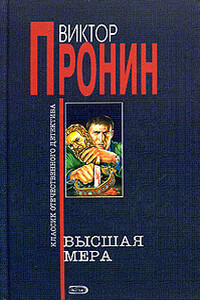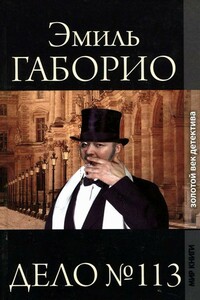— То, что вы нам рассказали, дорогой Павел Николаевич, очень забавно. Только не думайте, пожалуйста, что все мы такие простачки, — обмолвился вскоре после тех событий Сысцов по телефону.
— Упаси Боже! — дурашливо закричал Пафнутьев в трубку. — Я ведь понимаю, что главная моя забота не о мертвых, как бы хороши они ни были при жизни, а о живых людях, дорогой Иван Иванович!
— Вот тут вы правы. На все сто процентов. Но не больше, — добавил Сысцов.
— А бывает больше?
— Да, — сказал Сысцов негромко. — Бывает. Когда истина существует сама по себе, а события — сами по себе. И на истину они никак не влияют и никак в ней не отражаются. Тогда требуется более ста процентов правоты.
— Простите, но тогда истина...
— Совершенно верно, Павел Николаевич, — невозмутимо перебил его Сысцов, чуть повысив голос. — Истина — это версия, которая мне нужна. Которая мне нравится, в конце концов.
— Понял, — Пафнутьев с готовностью кивнул, хотя в этом не было никакой надобности — разговор шел по телефону.
— Вас устраивает такое толкование?
— Вполне.
— Тогда нас с вами ждет долгая и счастливая жизнь, — улыбнулся Сысцов и Пафнутьев кажется даже на расстоянии увидел его опасно сверкнувшие белоснежные зубы. — Разумеется, в пределах, отпущенных нам природой.
— Ха! — осторожно рассмеялся Пафнутьев, поддержав шутку большого человека.
Этот разговор Пафнутьев вел уже из своего нового кабинета и поэтому не был еще вполне уверен в себе. Кабинет представлял собой небольшую комнату размером метров двенадцать — три на четыре. Поначалу такое роскошество несколько угнетало Пафнутьева — как-никак это был первый отдельный кабинет в его жизни и он отнесся к нему с тем простодушным восторгом, с которым входят измаявшиеся жильцы коммуналок в свою первую отдельную квартиру. Пафнутьеву нестерпимо хотелось заменить штору, самому покрасить пол, захваченную пальцами дверь, вымыть большое окно, выходящее прямо в листву громадной липы — распахнув рамы, он мог даже потрогать листву рукой. По утрам он иногда здоровался с липой как бы за руку. Естественно, убедившись, что никто не стоит за спиной и не хихикает тихо, мелко и пакостно, как выражалась все та же Таня, которая относилась к нему так непостоянно. Иногда задумываясь о ней, Пафнутьев мимолетно огорчался, сознавая, что это не очень-то его тревожит. А хотелось, хотелось терзаний и маяты, радостной взвинченности, но... Не было. Он понимал — Таня уходит из его жизни. Спрашивая себя время от времени хотелось бы ему, чтобы она осталась, он отвечал себе искренне и убежденно, — да, хотелось бы, да, пусть бы оставалась. Но предпринять что-то решительное и дерзкое... На это не находилось ни времени, ни духу. И мысли об этой женщине чаще всего заканчивались словами, которые он произносил вслух: «Давай, дорогая, давай... Тебя ждут конкурсы красоты, призы в сверкающих коробках, собранные на полях чудес, тебя ждут прекрасные молодые люди в вислых зеленых штанах, тебя ждут широкие кровати и глухой стук хрусталя с шампанским в полумраке... Давай, дорогая... Прямой тебе дороги в этот самый полумрак...»
Так думал Пафнутьев, растравляя в себе обиду, наслаждаясь своим не очень сильным горем, упиваясь легкой тоской по этой женщине. И кончались подобные его мысли чаще всего тем, что он хмуро и сосредоточенно набирал телефонный номер Тани.
— Не помешал? — спрашивал он напряженным голосом, и Таня сразу все понимала — его настроение, состояние, надежду.
— Паша, ты себя переоцениваешь... Ничему помешать ты просто не можешь.
— Так уж и ничему?
— Да, Паша, да.
— Боюсь, ты меня недооцениваешь.
— Хочешь сказать, что я ошибаюсь?
— Ошибаешься.
— И готов доказать?
— Готов.
— Что же тебе мешает сделать это? — улыбалась Таня в трубку.
— Ты еще поговори у меня, — ворчал Пафнутьев, и посрамленный, ехал к Тане, заглядывая по пути в один-второй коммерческие киоски, которые как-то незаметно и неотвратимо выросли вдоль улиц, вокруг трамвайных остановок, во дворе прокуратуры, и даже в самом здании прокуратуры, правда, с внешней стороны, с торца.
* * *
В больницу Пафнутьев приехал через полчаса после телефонного разговора с хирургом. С интересом оглядываясь по сторонам, прошел по длинному сумрачному коридору, вдыхая острые больничные запахи, поднялся по холодной бетонной лестнице на второй этаж. Когда сестра спросила его, кого ищет, к кому пришел, Пафнутьев лишь приложил палец к губам — тише, мол, могут услышать. И сестра этим вполне удовлетворилась, тут же отправившись по своим делам. Подойдя к ординаторской, он вкрадчиво заглянул в дверь, неслышно приблизился к загородке. Отодвинув простыню в сторону, он увидел Овсова, сидящего к нему спиной. Но самое интересное было то, что по седому затылку хирурга медленно и как-то раздумчиво скользила девичья ладошка.