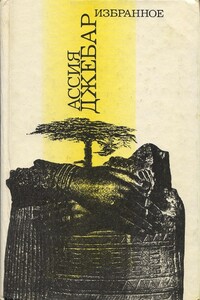А.Ваксберг в «Гибели Буревестника», ссылаясь на сына Вс. Иванова, утверждает, что Максим Пешков ездил по поручению отца в Ленинград к Кирову и уговаривал его занять место Сталина на 17-ом съезде партии. А «Переписка Максима Горького и Иосифа Сталина», опубликованная в «Новом мире» в 1997-ом году (№9), говорит об ином, о том, что «верный сталинской линии» писатель ставил в известность вождя «обо всем и обо всех» с надлежащим постоянством и прямотой: «напоминает вредительство», «смахивает на вредительство»… И все это с «фамилиями, датами, фактами»…
Б.И.Николаевский, редактор «Летописи Революции», с Горьким связывает идею создания второй, альтернативной партии в СССР, - «Союза беспартийных», который предоставил бы устраненным соучастникам преобразований возможность стать действующими участниками. А Алексей Максимович Горький в письме Леониду Леонову (декабрь, 1932-й год), захваченный волной гневных впечатлений по поводу «подлецов» из промпартии, пишет: «Отчеты о процессе подлецов читаю и задыхаюсь от бешенства. В какие смешные и нелепые положения ставил я себя в 1921 гг., заботясь о том, чтобы эти мерзавцы не подохли с голоду…»
10.
«Как великолепно развертывается Сталин…» Эту фразу из письма Горького директору Госиздата А.Б. Халатову «убойно» цитирует В.Баранов в своей книге «Да» и «нет» М.Горького». Однако не следует думать, что приверженность писателя к сталинской преобразовательной поступи объясняется его тактическими ходами. Не игнорируя «правых» и даже потрафляя им, он не принимал их «глаза, обращенные во внутрь», «лавирующее сознание», «двойное дно» и «общечеловеческие потроха». Именно об этом по горячим следам и поведал Михаил Кольцов, усмотрев в горьковском «уходе» насильственные, напитанные избыточной злобой, обертоны. Его книга «Буревестник. Жизнь и Смерть Горького» писалась во время процесса, на котором автор присутствовал. И вышла в свет практически одновременно со стенографическим отчетом (Политиздат, 1938). Объясняя причины «устранения» Горького, Михаил Кольцов, постигая умом и «приверженным напором», переходящим в псалом, пишет: «Активность Горького в общественной и государственной работе, его деятельность по сплочению международных сил, его дружба со Сталиным не могли не встревожить антисоветские круги… Как мог относиться Горький к прихвостням и агентам буржуазии, к пораженцам и предателям социалистической революции, к троцкистам и правым?.. И, конечно, на него, на передового, на крупнейшего борца за коммунизм, был направлен огонь право-троцкистского блока…»
11.
В истории написания Михаилом Кольцовым книги, изобличающей сталинских «перерожденцев» и «правотроцкиских поганых псов», есть любопытный нюанс: страшно растерялись советские евреи – и до сих пор в себя прийти не могут – по причине кольцовской тайнописи. Им не ясно, какую занять позицию относительно «журналиста с мировым именем», призвавшего мировую общественность поверить в справедливость смертного приговора, вынесенного гнусным пособникам «пятой колонны». И в самом деле, случившееся не вмещается в рамки не только переоценочно-правовой проблематики, но и в рамки восторжествовавшего культурно-либерального сознания вообще. Между тем кольцовский текст, устраняющий все шероховатости эпохального процесса, не похож ни на что, кроме самого Кольцова: в «Буревестнике. Жизни и смерти М. Горького» он ощущает себя «сталинским соколом». И разит «организованное меньшинство» – коварное, безжалостное, марионеточное – в глубине благоговейного ужаса осознавая, что и он, «умный до того, что ум становился для него самого обузой» (И. Эренбург), невыносим для властей предержащих…
Михаил Кольцов (Фриндлянд) в право-троцкистском процессе – это Сергей Кургинян в нынешнем Историческом ТВ-процессе, называющий вещи своими именами и благодаря этому обретающей сюрреалистическую силу. Назвать – значит, воссоздать. И это не критический трансцендентализм, а самая настоящая онтология. Когда книга об убийцах Горького была напечатана, Кольцов, «причастный ко всему, чем занимался» (Л. Арагон), был почти мгновенно «дезавуирован». Художник Б.Е. Ефимов в своих воспоминаниях («В мире книг», 1987, № 10) приводит состоявшийся в это время разговор с братом: «Не могу понять, что произошло, – говорил мне Миша, – но чувствую: после «Буревестника» что-то переменилось… Откуда-то подул зловещий ледяной ветерок».