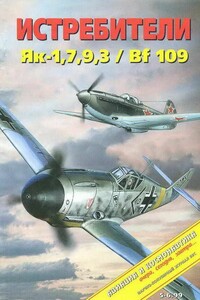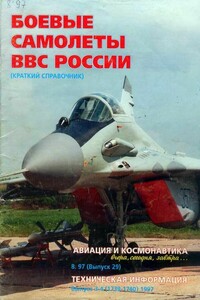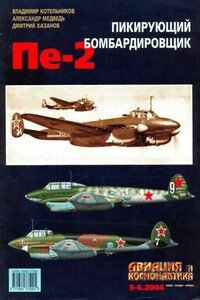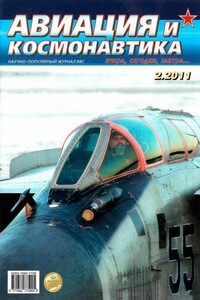Переговоры старшего лейтенанта Тучкова с начальником воздушного района службы связи Балтийского моря старшим лейтенантом Щербаковым в конце июня 1915 г., свидетельствуют о первых попытках в этом направлении. «…Вчера на заводе встретил лётчика поручика Станюковича и его наблюдателя штабс-капитана Думбадзе, которого Литвинов хорошо знает, они мне рассказали, что несут морскую разведку около Виндавы и Либавы, бросали бомбу в Либавской гавани в крейсер и миноносец, иногда выходят в море но аппарате «Вуазен» с расчётом спланировать на берег, два раза видели в море эскадру, но не знали чью, решили бомб не бросать в корабли и лодки, находящиеся вне Либавы так как это могут быть свои. Лётчики находятся в распоряжении штаба 5-й армии около Митовы. Советую войти в тесное соприкосновение с нашей, и их разведками. Предложил Виндаву, кок пункт встречи аэропланов и гидро. Необходимо принять срочные меры для предупреждения возможностей воздушного боя между своими самолётами. Необходимо выработать отличительные знаки нашим подлодкам и миноносцами. Тучков».
Щербачёв доложил: «Немедля обсужу вопрос с лётчиками, с каперангом Подгурским и войду в контакт с Ренгартеном.
…Военным летчикам показывал лодку «Ф.Б.А», говорил, что будут летать такие аппараты. С их стороны было высказано предположение возможности спутать летающую лодку с «Альбатросом» ввиду сходства гондол, хотя лётчики и наблюдатели берутся их отличить, но просят хотя бы разной окраски стабилизатора, например, предлагают покрасить его в белый цвет».
К началу войны постройку передовых воздушных станций на острове Дэгерэ и местечке Лапвик, соответственно 1-го и 2-го разрядов завершить не удалось. Действующая система базирования авиации, принимая во внимание возможности самолётов, позволяла вести разведку на ограниченных удалениях порядка 100 – 150 км, что не удовлетворяло интересам флота. В связи с этим командующий Балтийским флотом вице-адмирал В.А.Канин в поисках выхода из создавшегося положения, 23 июня 1915 г. обратился к главнокомандующему 6-й армией с просьбой о выделении флоту из армейской авиации двух аэропланов «Илья Муромец», мотивируя следующим:
«В последние месяцы, предшествовавшие войне, была сделана попытка использовать для морской воздушной разведки аппарат Сикорского типа «Илья Муромец» который переделали в гидроаэроплан. Эта переделка отозвалась крайне отрицательно на свойствах аппарата, проектированного для взлёта и посадки на земле. И хотя опыты в этом отношении не были закончены, но можно сказать, что отчасти благодаря им аппарат Сикорского был потерян в первые дни войны. Имея теперь сведения о постановке дела для постройки аппаратов Сикорского для нужд армии, я ходатайствую о предоставлении возможности получить для нужд Балтийского флота несколько аппаратов этого типа.
При помощи этих мощных аэропланов явится возможность освещать воздушной разведкой необходимый для оперативных целей морской район и использовать их для активной борьбы с подводными лодками, требующей большого числа воздушных бомб значительного веса.
Ещё одно обстоятельство, имеющее большое значение для воздушных операций, заставляет просить о снабжении Балтийского флота аппаратами Сикорского. Это низкие температуры нашего осеннего и зимнего периода, когда попеты аэропланов становятся крайне затруднительными из-за полной незащищённости лётчика – недостаток, который устранён на последних аппаратах Сикорского.
Летающая лодка Григоровича М-9
Всё вышеизложенное побуждает меня ходатайствовать теперь же получить в распоряжение Балтийского флота два готовых аппарата типа «Илья Муромец», изготовленных для нужд нашей армии, а также просить Морской генеральный штаб о немедленном заказе этих аппаратов для будущего снабжения ими флота».
Армейцы балтийцам не помогли, а РБВЗ едва справлялся с заказами для военного ведомства. Кроме того, последнее платило за самолёты больше и ме мудрствовало с установкой их на поплавки, существенно ухудшавшие все характеристики и усложнявшие эксплуатацию.
В начале июля 1915 г. начальник службы связи Балтийского флота контр-адмирал А. И. Непенин направил командующему флотом довольно любопытный рапорт: «…прошу распоряжения вашего превосходительства, чтобы в случае отступления со 2-й авиационной станции в Кильконде, ничего на станции не жечь и не разрушать, кроме радиостанции и бензиновых погребов, ибо железобетонных ангаров и спусков сжечь и разрушить на скорую руку не удастся. А деревянные дома неприятелю корысти не составят. Предвижу, что отступление, если оно и будет, будет частичным или временным, а потом разрушенное не построишь до окончания войны, да едва ли дадут деньги и после войны на постройку вновь всего».