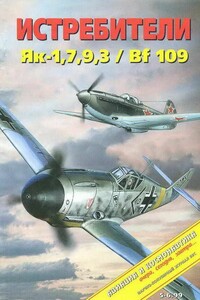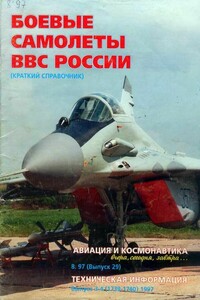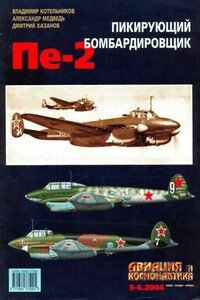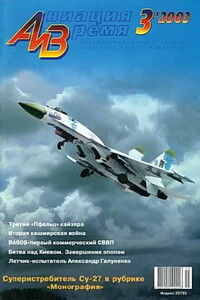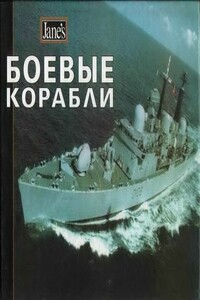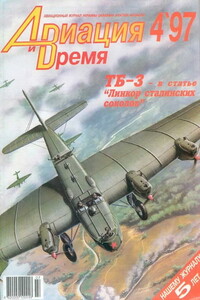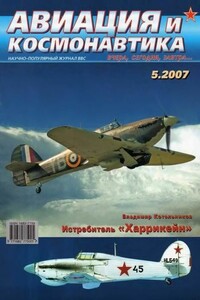Святая святых в эксплуатации гражданских самолетов второго поколения – выдерживание постоянной скорости на глиссаде – на Ту-104 не обеспечивалась, как в большинстве случаев и… сама глиссада. Положено было дальний привод проходить на скорости 300 км/ч, ближний – на 280 км/ч, а приземляться на 250 км/ч. Скорость можно было гасить только выдерживанием ступенчатого профиля траектории снижения. Рекомендованные скорости приземления 225-250 км/ч никогда не выдерживались, это было чревато сваливаниями и грубыми посадками, а вот приземления на скорости 300 км/ч были постоянными.
У Ту-104, самолета тяжелого, была огромная инерция – малый газ на нем давали на высоте 10-15 метров (!), и самолет со скорости 300 км/ч плавно приземлялся на 270-280 км/ч – таков запас скорости! Кстати, именно это свойство Ту-104, превратившись у конструкторов и пилотов в некий стереотип выполнения посадки, создало столько проблем на раннем этапе освоения Ту-154, когда пилоты, согласно прежних рекомендаций, применяли раннюю дачу малого газа (по аналогии с Ту-104), и это приводило к грубым приземлениям Ту-154-го (самолета куда менее прочного, чем Ту-104).
Ясно, что без пилотской филигранности выполнить на Ту-104 заход на аэродром с крутой глиссадой (скажем, в Читу) или с короткой полосой (Омск) не представлялось возможным. Просчитывали каждую секунду.
Парашют можно было выпускать на скорости 270 км/ч и ниже после опускания передней ноги, однако при достаточном запасе полосы и точном приземлении им не пользовались – хватало тормозов. А вообще, сколько же происшествий на Ту-104 было связано с этим парашютом! Надеясь, что полосы хватит, пилоты до последнего момента не выпускали парашют, однако ее все же не хватало, и самолеты выкатывались за ее пределы. Или, стремясь обеспечить пробег без использования парашюта, пилот нацеливался на самый торец полосы, но слишком рано убирал газ и приземляется на грунт…
Но почему же, в таком случае, всегда было не выпускать парашют? В конце концов, было бы гораздо меньше выкатываний! А вот тут уже вступали в силу чисто аэрофлотовские издержки, причем скорее моральные, нежели технические.
Наземным службам было трудно и хлопотно складывать парашют, и «земля» сердилась, когда полагала, что пилот выпустил парашют без особой надобности. Это был как бы повод для сомнения в пилотском мастерстве – и пилоты, к сожалению, нередко шли на поводу у собственного самолюбия. Сколько произошло в «Аэрофлоте» драм и трагедий из-за этого ложно понятого чувства профессионального достоинства, из-за трений между службами – сосчитать нельзя…
В Домодедово, Иркутске, Хабаровске и прочих портах с длинной полосой парашют на Ту-104 при нормальных приземлениях не использовали.
Интересно, что тяжелый Ту-104 с пассажирами и багажом приземлялся лучше, чем пустой. Тяжелый, в случае точного пилотского расчета, снижался над полосой и касался земли вовремя, то есть в пределах зоны приземления. Легкий же Ту-104 порой продолжал лететь и лететь над полосой на малом газу в плотном околоземном слое (парашютировал), и поделать с ним что- либо было невозможно – приходилось ждать, когда же, наконец, произойдет касание, а потом, как обычно, с немалыми переживаниями и на самом эффективном торможении ожидать приближения торца полосы… Реверс тяги и интерцепторы на этом самолете, как известно, отсутствовали.
Мудрено ли, что при таких особенностях самолета происходило много выкатываний. За них, равно как и за приземление до полосы, пилотов наказывали не особенно сильно, иногда даже талон не отбирали (это при тогдашней-то муштре и дисциплине в авиации!). Не выгонять же чуть ли не треть пилотов Ту-104 – летных специалистов воистину уникальных!
Прогресс в области двигателестро- ения, приведший к применению реверса, внедрение иных компоновочных схем гражданских авиалайнеров решили проблему эффективного торможения на пробеге. Но Ту-104, непригодные для использования двигателей с реверсом тяги, так и летали с парашютом до самого последнего времени.
Другая особенность Ту-104 – малый запас по дальности полета и, следовательно, невысокий уровень обеспечения регулярности полетов.