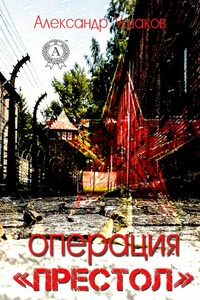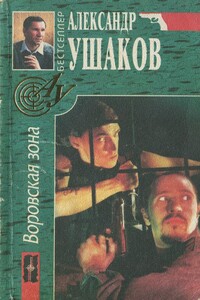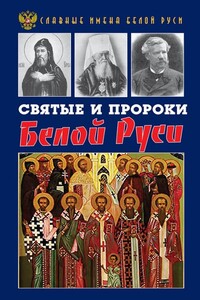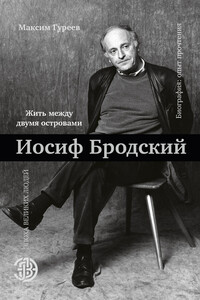Именно с этими ребятами Кемаль проводил все свое свободное время, и чаще всего они отправлялись в кафе, где подолгу беседовали на самые различные темы и играли в трик-трак.
Кемаль оказался азартным игроком и не любил проигрывать.
Увлечение поэзией не прошло для Кемаля бесследно.
Война с Грецией вызвала у него необыкновенный патриотизм, и он решил отправиться на фронт.
И вряд ли мать, к которой он заехал по дороге, сумела бы отговорить его от этой безумной затеи, если бы так своевременно не закончилась война.
Греческая армия была разбита, и Кемаль ликовал так, словно сам принимал участие в сражениях.
Дорога на Афины была открыта, и газеты на все лады славили армию.
Но, увы, победная эйфория длилась недолго.
Подобный исход пришелся не по нраву западным странам, и они быстро указали воспрянувшей духом империи на ее место, заставив подписать совершенно ей ненужное перемирие.
Вместе с другими учениками Кемаль не мог скрыть своего недоумения.
Как же так, вопрошал он!
Его родину унизили в глазах всего мира, и она покорно проглотила обиду!
Наряду с этим законным недоумением в нем появилось и недоверие к управлявшим страной людям.
В значительной степени оно подогревалось молодыми офицерами из стоявших в Монастыре частей, имевшими все причины быть недовольными существующим режимом, опорой которого являлись крупные феодалы, вожди племен, высшее мусульманское духовенство и бюрократия.
Образованность любого человека рассматривалась как первый признак его политической неблагонадежности.
Среди османских министров не было ни одного человека с высшим образованием, а в армии предпочтение отдавалось выслужившимся из унтеров невеждам.
Конечно, Кемаль еще не мог понимать всего зла, какое являла для страны абсолютная султанская власть, и всю вину за свалившиеся на империю беды возлагал на ее высших чиновников и министров.
«Наши преподаватели, вспоминал он, — заявили нам, что мы можем оккупировать всю Грецию.
Но когда новость о перемирии дошла до нас, курсанты испытали глубокое разочарование.
Но мы не могли задавать вопросов.
Только мой друг Нури рассказал мне, как один молодой офицер плакал, заявляя, что всё происшедшее печально.
Тем не менее, на улицах Манастира была организована радостная манифестация и снова раздавались крики: „Да здравствует султан!“
Впервые я не присоединился к подобному пожеланию».
На этот раз Кемаль не был единственным, кто сомневался.
Нежелание Кемаля славить султана говорило о многом, и, в первую очередь, о том, что он стал серьезно задумываться о настоящем и будущем страны.
И смотрел он на это настоящее, судя по всему, уже без розовых очков.
Кемаль быстро взрослел.
Изменилось и его отношение к матери.
Обида стерлась, а отчим оказался веселым и добрым человеком.
И он очень переживал, когда в начале девяностых годов от туберкулеза умерла родившаяся в 1889 году его меленькая сестренка Наклийе.
После примирения с матерью Кемаль все свои каникулы проводил в Салониках, где и познал свою первую любовь.
Ею оказалась дочь военного коменданта Салоник Шевки-паши Эмине.
Расстался с нею Кемаль только после поступления в Харбие.
— Если бы ты только знала, — глядя в грустные и полные любви глаза девушки, говорил он, — как мне тяжело расставаться с тобой! Но я клянусь тебе, что никогда не забуду тебя, и надеюсь на тебя!
И как вспоминала затем сама Эмине, Кемаль часто виделся с нею и даже хотел жениться на ней.
Да и сам Кемаль не забыл свою первую любовь и много лет спустя, слушая в своей президентской резиденции в Чанкайя песню «Моя Эмине», был тронут воспоминаниями юности.
Как-то с несказанной грустью он заметил, что в сердце каждого мужчины живет своя Эмине…
Правда, в другой раз он говорил о том, что его первой любовью была молодая гречанка из Салоник, которую он намеревался увезти с собой в Монастыр, и только его дядя Хуссейн-ага отговорил его от этой безумной затеи.
И надо ли говорить, как боялась за него уже познавшая властный характер сына мать.
Впрочем, она быстро успокоилась: несмотря на все свои увлечения, Кемаль не собирался жениться, и все его мысли были заняты военной карьерой.