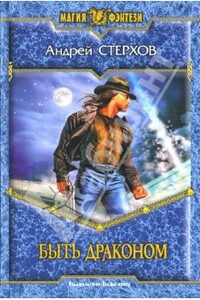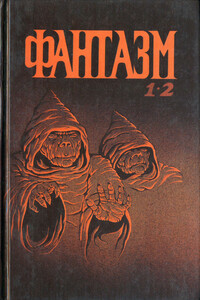Сам ритуал уже в Городе случился, куда Лёха, сбежав от родни неродной, подался в неполные свои двенадцать. До пятнадцати на подхвате у разных знатных магов был, затем обособился и разным промышлял, в основном — магическим целением душ человечьих. В деле этом тонком и непростом достиг он, надо признать, мастерства необычайного. От Восточных Саян до Урал-Камня молва о нём в народе шла и, оттолкнувшись от Камня, назад к Саянам бежала. Ну а когда восемнадцать ему стукнуло, гражданская война по местным степям разлилась, и подался наш Лёха в Когорту Железных. Прельстило его чем-то братство светлых чародеев, поддержавших советскую власть в её руководстве движением народа по прямой линии к общему благу. А пришло время, настал час, записался Лёха и в Красную Армию. Не из глупой ажитации, не из конъюнктурной выгоды, исключительно из горячего, искреннего и непреодолимого желания поспособствовать умением своим магическим утверждению на земле всеобщего царства братской любви.
Ну а потом уже довелось Лёхе, не без этого, и отряды Колчака громить, и белочехов на запад гнать, и архаровцев атамана Семёнова — до самого Китая. И гнать-громить, по правде говоря, преимущественно не волшебством-колдовством орудуя, а шашкою казачьей. Сколько Лёха народишка всякого-разного порубил, сколько кровушки людской пролил, о том ни в сказке сказать, ни пером описать, да и просто так представить весьма затруднительно. Одно известно доподлинно: за беспримерную отвагу и преданность делу революции орден Красного Знамени за двузначным номером Лёха получил от власти комиссарской, а помимо того — ещё и наган именной. Да только радости никакой ему такой почёт не доставил. Говорят, загрустил Лёха через зиму на лето. До того загрустил, что как-то раз над телом очередного беляка краснооколошного, который на поверку вовсе и не беляком никаким оказался, а совсем даже загулявшим инженером-геологом, заплакал от обиды герой наш доблестный. Горько-прегорько заплакал. Так горько, как только и могут плакать одни только герои доблестные. А потом растёр слёзы стыдные по плохо бритым щекам, и сказал, к товарищам боевым обращаясь: что же это за любовь такая братская, царство которой шашкою да пулей утверждать приходится? А как только произнёс он эти слова вслух, так сразу во всём и разуверился. Потому как жалость, сука буржуазная, она вере революционной как раз и есть самый лютый и наиглавнейший враг.
С тех самых пор не видел больше никто в здешних местах высшего мага Лёху Боханского. Бойцы-товарищи, обнаружив на утро приколотую шашкой к стене записку: «Братцы, не ищите меня, я в Эльдорадо», порешили про меж себя, что застрелился Лёха. А что тело не нашли, так Сибирь велика. Среди же посвящённых слух прошёл, что, мук совести не вынеся, навсегда подался он в Запредельное. И я вместе со всеми так думал до этих самых пор. Да вот, выходит, зря.
Мои воспоминания о невесёлой Лёхиной судьбе, вернее уже не сами воспоминания, а всякие путаные мысли по поводу этих воспоминаний, прервал голос Архипыча. Вот только ещё вроде спал кондотьер, а тут вдруг встрепенулся весь, повертел седой башкой туда-сюда и приказал громогласно:
— Всё, Боря, тормози. Кажись, приехали.
Мы в это время неслись чёрт знает где, но по просёлочной дороге, разделяющей две неравные части скошенного поля. Прямо по курсу смутно виднелась берёзовая роща, за ней — сопка, поросшая соснами. Макушки сосен касались низкого неба, которое лишь на востоке чуть-чуть порозовело, а так кругом было сплошь серым.
— Где это мы? — спросил я, когда машина встала.
— В нужном месте, — пригладив растрепавшуюся бороду, заверил Архипыч. И после того как сочно зевнул, начал меня инструктировать: — Дальше, Егор, пойдёшь пешком и пойдёшь один, поэтому запоминай. Топаешь по дороге до рощи, через рощу пройдёшь, там развилка будет, натуральная «курья ножка»: налево тропа, прямо и направо. Ты, Егор, налево не ходи. Налево западло ходить. Прямо тоже не ходи. Там снег башка попадёт. Ходи направо. И до тех пор ходи, пока ургу не увидишь.
— Ургу? — напрягся я. — Что такое есть урга?