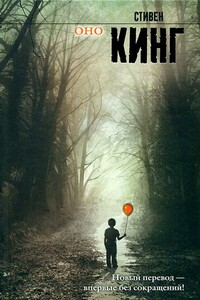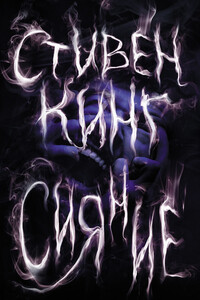Так Ник и Том повстречались с Ральфом Брентнером.
41 Он упал и ударился головой.
Мир нырнул в черноту и появился вновь, разбитый на яркие фрагменты. Он ощупал висок, и рука оказалась покрыта тонкой пленкой крови. Не имеет значения. Что такое упасть и удариться головой, когда последнюю неделю ни одна ночь не прошла без кошмаров, и удачными ночами можно было считать те, когда крик застревал у него посередине глотки? Если в голос закричишь во сне и проснешься от этого, то испугаешь себя еще сильнее.
Ему снилось, что он опять в туннеле Линкольна. Кто-то шел позади него, но во сне это была не Рита. Это был дьявол, и он подкрадывался к Ларри с застывшей на лице темной усмешкой. Черный человек не был ожившим мертвецом; он был хуже, чем оживший мертвец. Ларри бежал, объятый медленной, тинистой паникой, свойственной кошмарам. Он спотыкался о невидимые трупы, смотревшие на него стеклянными глазами чучел из склепов своих машин. Он бежал, но какой был в этом толк, когда черный человек мог видеть в темноте? А спустя какое-то время темный человек начинал напевать: «Пошли, Ларри, пошли, мы будем вмеээээээсте, Ларри…»
Он начинал ощущать дыхание черного человека у себя на плече, и в этот момент он с усилием выбирался из сна, а крик либо застревал у него в глотке, как горячая кость, либо вырывался у него изо рта так, что можно было разбудить мертвых.
В дневное время видение темного человека исчезало. Он работал исключительно в ночную смену. А днями над ним приходило работать Одиночество, вгрызаясь в его мозг острыми зубами какого-то неутомимого грызуна — крысы, а может быть, ласки. Днями он думал о Рите. Снова и снова в своем сознании он снова и снова переворачивал ее и видел эти глаза-щелки, похожие на глаза животного, умершего от удивления и боли, и этот рот, который он когда-то целовал, забитый теперь застоявшейся зеленой рвотой. Она умерла с такой легкостью, ночью, В ТОМ ЖЕ САМОМ ПОГАНОМ СПАЛЬНОМ МЕШКЕ, а теперь он…
Ну что сказать, сходил с ума. Именно так и было, разве не так? Именно это с ним и происходило. Он сходил с ума.
— Сумасшедший, — простонал он. — Господи, я становлюсь сумасшедшим.
Уцелевшая рациональная часть его сознания подтверждала, что, возможно, это так и есть, но в данный момент страдал он не от этого, а от теплового удара. После того, что произошло с Ритой, он уже был не в состоянии ехать на мотоцикле. Перед ним постоянно маячило видение собственной плоти, размазанной по всему шоссе. В конце концов он отправил мотоцикл в канаву. С тех пор он шел пешком — как долго? четыре дня? восемь? девять? Он не знал. После десяти часов утра температура поднялась выше девяносто градусов по Фаренгейту, сейчас было почти четыре, солнце било ему прямо в спину, а шляпы на нем не было.
Ларри потерял много веса и сейчас балансировал на тонкой метафорической (или метаболической?) грани между худобой и истощением. У него отросла борода. Глаза его глубоко запали и сверкали в глазницах, словно маленькие затравленные зверьки, попавшиеся в рядом расставленные ловушки.
— Сумасшедший, — простонал он снова. Безнадежное отчаяние своего собственного скулящего стона испугало его. Неужели дела зашли так далеко? Когда-то существовал Ларри Андервуд, записавший пластинку, имевшую неплохой успех, человек, у которого были фантазии о том, что он станет Элтоном Джоном своего времени… а теперь этот парень превратился в разбитое создание, ползущее по черному покрытию шоссе N9 где-то на юго-востоке Нью-Хемпшира. Тот другой Ларри Андервуд не мог иметь никакого отношения к этому ползучему скату… к этому…
Он попытался подняться и не смог.
— Ой, это так смешно, — сказал он вслух, наполовину смеясь, наполовину плача.
Через дорогу на холме в двух сотнях ярдов, сверкая словно прекрасный мираж, стояла на отшибе белая новоанглийская ферма. Ее обшивка и отделка были зеленого цвета, крыша была покрыта зеленой дранкой. С холма сбегала зеленая лужайка, которая только-только начала зарастать травой. У подножия холма тек небольшой ручей. Ларри мог слышать завораживающий звук его веселого журчания. Вдоль него извивалась каменная стена, возможно, служившая границей частного владения, а над ней на приличном расстоянии друг от друга нависали огромные, тенистые вязы. Он доползет дотуда и просто посидит немного в тени — вот что он сделает. А когда он более спокойно сможет взглянуть на… на положение дел вообще… он встанет на ноги, спустится к ручью, попьет воды и умоется. Может быть, от него плохо пахнет. Однако, кому какое дело? Кто будет нюхать его теперь, когда Риты нет на свете?