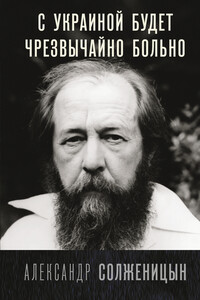Спать! — это очень важно. На брюхо лечь, спиной укрыться и спать! Во время сна ты не расходуешь сил и не терзаешь сердца — а срок идёт, а срок идёт! Когда трещит и брызжет факелом наша жизнь, мы проклинаем необходимость восемь часов бездарно спать. Когда же мы обездолены, обезнадёжены — благословение тебе, сон четырнадцатичасовой!
Но в той камере меня продержали два месяца, я отоспался на год назад, на год вперёд, за это время подвинулся под нарами до окна и снова вернулся к параше, уже на нары, и на нарах дошёл до арки. Я уже мало спал — хлебал напиток жизни и наслаждался. Утром научно-техническое общество, потом шахматы, книги (их, путёвых, три-четыре на восемьдесят человек, за ними очередь), двадцать минут прогулки — мажорный аккорд! мы не отказываемся от прогулки, даже если выпадает идти под проливным дождём. А главное — люди, люди, люди! Николай Андреевич Семёнов, один из создателей ДнепроГЭСа. Его друг по плену инженер Фёдор Фёдорович Карпов. Язвительный находчивый Виктор Каган, физик. Консерваторец Володя Клемпнер, композитор. Дровосек и охотник из вятских лесов, дремучий как лесное озеро. Эн-те-эсовец из Европы Евгений Иванович Дивнич. Он и православный проповедник, но не остаётся в рамках богословия, он поносит марксизм, объявляет, что в Европе уже давно никто не принимает такого учения всерьёз — и я выступаю на защиту, ведь я марксист. Ещё год назад как уверенно я б его бил цитатами, как бы я над ним уничижительно насмехался! Но этот первый арестантский год наслоился во мне — когда это произошло? я не заметил — столькими новыми событиями, видами и значениями, что я уже не могу говорить: их нет! это буржуазная ложь! Теперь я должен признавать: да, они есть. И тут сразу же слабеет цепь моих доводов, и меня бьют почти шутя.
И опять идут пленники, пленники, пленники — поток из Европы не прекращается второй год. И опять русские эмигранты — из Европы и из Маньчжурии. С эмигрантами ищут знакомых так: из какой вы страны? а такого-то знаете? Конечно знает. (Тут я узнаю о расстреле полковника Ясевича.)
И старый немец — тот дородный немец, теперь исхудалый и больной, которого в Восточной Пруссии я когда-то (двести лет назад?) заставлял нести мой чемодан. О, как тесен мир!.. Надо ж было нам увидеться! Старик улыбается мне. Он тоже узнал и даже как будто рад встрече. Он простил мне. Срок ему десять лет, но жить осталось меньше гораздо… И ещё другой немец — долговязый, молодой, но оттого ли что по-русски ни слова не знает — безотзывный. Его и за немца не сразу признаешь: немецкое с него содрали блатные, дали на сменку вылинявшую советскую гимнастёрку. Он — знаменитый немецкий ас. Первая его компания была — война Боливии с Парагваем, вторая — испанская, третья — польская, четвёртая — над Англией, пятая — Кипр, шестая — Советский Союз. Поскольку он — ас, не мог же он не расстреливать с воздуха женщин и детей! — военный преступник, 10 лет и 5 намордника. — И, конечно, есть на камеру один благомысл (вроде прокурора Кретова): "Правильно вас всех посадили, сволочи, контрреволюционеры! История перемелет ваши кости, на удобрение пойдёте!" — "И ты же, собака, на удобрение!" — кричат ему. — "Нет, моё дело пересмотрят, я осуждён невинно!" Камера воет, бурлит. Седовласый учитель русского языка встаёт на нарах, босой, и как новоявленный Христос простирает руки: "Дети мои, помиримся!.. Дети мои!" Воют и ему: "В Брянском лесу твои дети! Ничьи мы уже не дети!" Только — сыновья ГУЛАГа.
После ужина и вечерней оправки подступала ночь к намордникам окон, зажигались изнурительные лампы под потолком. День разделяет арестантов, ночь сближает. По вечерам споров не было, устраивались лекции или концерты. И тут опять блистал Тимофеев-Ресовский: целые вечера посвящал он Италии, Дании, Норвегии, Швеции. Эмигранты рассказывали о Балканах, о Франции. Кто-то читал лекцию о Корбюзье, кто-то — о нравах пчёл, кто-то — о Гоголе. Тут и курили во все лёгкие! Дым заполнял камеру, колебался как туман, в окно не было тяги из-за намордника. Выходил к столу Костя Киула, мой сверстник, круглолицый, голубоглазый, даже нескладисто смешной, и читал свои стихи, сложенные в тюрьме. Его голос переламывался от волнения. Стихи были: "Первая передача", «Жене», «Сыну». Когда в тюрьме ловишь на слух стихи, написанные в тюрьме же, ты не думаешь о том, отступил ли автор от силлабо-тонической системы и кончаются ли строки ассонансами или полными рифмами. Эти стихи — кровь твоего сердца, слёзы твоей жены. В камере плакали.