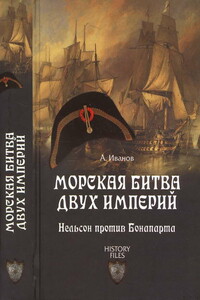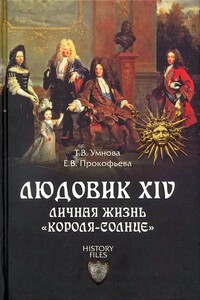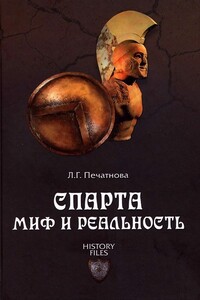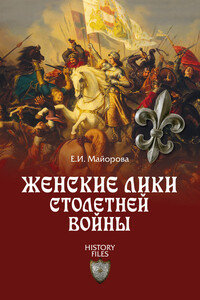«Густой туман в первый день скрывал от нас долину Индус. Он рассеялся лишь к ночи, но холодная сырость не проходила. Вроде бы плохая примета к началу полевых работ. Но в Азии не принято торопиться. И я со своими помощниками принялся глубокомысленно пить маленькими чашечками китайский чай», — это из его путевого дневника.
Что же придавало профессору уверенность? Он отправился в этот район Центральной Азии, проведя много часов в университетских библиотеках. Он искал легенды и мифы народов того края. И наткнулся на массу интересных и полезных для археолога материалов. Мрачный и холодный коридор, идущий от Кашмира в сторону афганских нагорий, описан в фольклоре индусов, китайцев, афганцев, тибетцев и многих других народов.
Гауптманн высоко ценил прозорливость Шлимана. Человек, открывший Трою по строчкам Гомера, подарил науке отличный метод поиска истины в тумане истории. Восприняв его методику, археологи на территории Греции и стран Малой Азии раскопали более 100 городов гомеровской эпохи. Это примечательный феномен. По римским легендам обнаружены поселения этрусков. Причудливые сказания индейцев Перу помогли откопать дворцовые комплексы и крепости инков. Важные открытия сделаны и в Мексике, Египте и на юге Европы.
>Эти знаки, которым полторы тысячи лет, как предполагают немецкие специалисты, оставили в ущелье персидские воины
Какие же легендарные мотивы попали в поле зрения немецкого исследователя из Гейдельберга? Прежде всего бросилось в глаза, что ущелье в сказаниях разных народов называлось одинаково — путь тяжких испытаний, дорога к новой жизни.
Такое совпадение подсказывало, что там протянулась трасса древних переселений. И это затем оправдалось.
Один из мифов повествовал об оборотнях, встречающихся в горах чуть ли не на каждом шагу. Но это были не духи зла, а духи предупреждения человека! «Соберись с силами, прежде чем вступать на эту горную тропу, — советовали они. — Сумей превзойти себя и преодолеть трудности здесь, чтобы обрести судьбу краше и легче там». Вдогонку путнику они вещали: «Не трепещи перед суровой природой и не злись. Будь к ней почтителен и терпелив».
Оборотни как бы подсказывали, как вести себя в горных условиях, но одновременно давали и философское наставление о стойкости при трудных поворотах судьбы: «Путник, ты в горах простой смертный. Здесь ты на перепутье между временным и вечным. Не озлобляйся и укрепи веру в завтрашний день».
Фантазия народов Востока прихотлива до безграничности. В ряде легенд и сказаний оборотни перевоплощались в драконов, у которых третье око — всевидящее, способное заглянуть в самую глубину человеческой души и предупредить: «Задумайся, всяк сюда приходящий. Камни здесь живые, не страшись их, постарайся распознать и ублажить их. Ведь в них мудрость с затаенным предназначением».
В местном фольклорном пантеоне оказался и еще один причудливый чревовещатель — единорог. Он задавал путникам загадки и сам отвечал на них: «Главное — терпение и вера в счастливый конец пути. Молчание гор — особый знак. Вслушайся!»
Словом, тут сложилась своя философия жизни, свои понятия добра и зла. Людям, отправляющимся в новые края, настоятельно советовали освободиться от суеты и междоусобиц, запастись здравым пониманием вещей и прихотей судьбы.
Да, в ущелье оборотней, драконов и чревовещателей стоило поехать!
* * *
Итак, исследователи ступили на «дорогу испытаний сущности человека и его новых предназначений». Они сразу же поняли, что народов здесь проходило множество. Это были исходы на новые земли, в причинах которых еще предстояло разобраться. Перебирались через Каракорум охотники, скотоводы, кочевники и племена, чьей профессией был разбой. Оставленные ими граффити, символы и наскальные рисунки впервые показали, что судьба целых этносов древности выписывала тут весьма запутанные исторические кренделя — в ущелье происходило своеобразное вавилонское столпотворение, но только растянувшееся по горной тропе и во времени…
И вот вам первая находка, крайне озадачившая историков, — на плоскости камня красовался горный козел совсем не местного вида. Он миниатюрен, но выполнен изящно. Художник лет эдак 2500 назад явно старался. И он был скифом! Животное было в чистом скифском «зверином» стиле, известном нам по экспонатам музеев в Москве и Петербурге. Но как же сюда мог попасть народ, населявший приалтайские и причерноморские просторы?