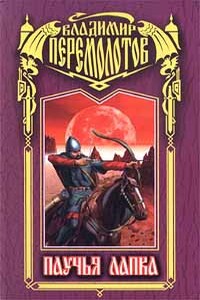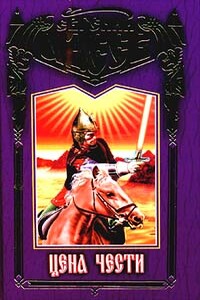— Так оставим же всемогущего бога слабым духом! — воскликнул Хилиарх. — А сами, пока наши руки держат меч, будем делать всё, чтобы Разрушитель не стал владыкой мира. В этом мы сможем сравняться с богами!
— И-эх! Да попадись мне теперь сам Чернобог, я бы постарался хоть дубину об него обломать перед смертью! — ударил шапкой оземь Шишок.
Вдруг острый взгляд грека заметил на снегу возле камня след, который он не мог перепутать ни с чем. Много лет назад он холодной палестинской ночью сидел в развалинах, дрожа от страха и прижимая к себе мешок с серебром. Монеты с профилями кесаря и иудейских царей были бесполезны против царя зверей, чей рёв доносился снаружи. А наутро Хилиарх увидел на песке такой же крупный когтистый след.
— Значит, львы всё-таки водятся у вас? Их уже не осталось ни в Элладе, ни даже во Фракии.
— Да, — кивнул Вышата. — Мы, венеды, зовём льва «лютый зверь»![25] Но это — не Великий Лев.
Серячок вдруг взволнованно заворчал. Словно в ответ ему снизу, от подножия склона, донёсся могучий, величественный рёв, сквозь который едва пробивались человеческие голоса. Этот рёв грек тоже не мог спутать ни с чем.
— Кажись, накликали, — вздохнул Вышата и первый стал осторожно спускаться крутым склоном.
Тёмно-жёлтый, черногривый зверь отличался от виденных Хилиархом разве что более густой шерстью. Грозный рёв волнами катился из пасти вместе с клубами пара. Прямо перед царственным хищником стояли, прижавшись к деревьям и выставив перед собой мечи, двое — парень и девушка. Свитки у обоих были новые, праздничные, расшитые по краям: у парня рыжая, у девушки белая. Праздничным был и крашенный пурпуром шерстяной платок девушки. Юноша был собой крепкий, видный, с выбивающимися из-под шапки буйными светло-рыжими кудрями. Миловидное лицо его спутницы застыло в испуге, обе руки отчаянно сжимали меч.
Остановив жестом троих воинов, уже взявшихся за оружие, Вышата встал между юной парой и львом и спокойно заговорил:
— Не трогай их, лютый зверь, священный зверь. Видишь, у нас острые мечи, но мы не охотимся на тебя. Иди своей дорогой, во имя Матери Зверей.
— Э-э, да он учуял жареное мясо, — сказал Шишок и обратился ко льву: — Не повезло тебе, царь звериный, ты уж прости. Косулю мы не жарим, а сжигаем. Хозяйке Зверей в жертву. Так что зря ты пришёл. Моему пёсику и то ничего не досталось.
Серячок с сочувствием взглянул на грозного зверя. Тот поревел ещё для важности и неторопливо, гордо удалился. Ардагаст с усмешкой взглянул на юную пару:
— Как же это вы додумались у лютого зверя на дороге стать, да ещё с железками? Совсем растерялись, видно?
— Почему растерялись? — как-то нетвёрдо возразил парень. — Я сам из лютичей, а матушка моя — жрица Лады и лютого зверя. Я и говорю ему как положено: не трогай-де, священный родич, нас, иди своей дорогой...
— А для верности меч выставил? Или не знал, чем себя перед девицей показать: воинским умением либо родством со священным зверем? Я, кстати, тоже из лютичей — царского рода сколотов-пахарей. Как тебя хоть зовут, родич?
— Ясень, Лютослава и Лютицы сын.
— А я — Добряна, дочь Доброгоста, великого старейшины северян, — сказала девушка и, взглянув на золотые ножны меча и росскую тамгу на плече Зореславича, робко спросила: — А ты, верно, Ардагаст, царь росов? Я думала, ты совсем не такой...
— А какой — на всех чертей похожий? Больше слушай Чернобора с его сынками косолапыми...
— У нас многие радовались: нашёлся такой могут, что Медведичей проучил! — задорно улыбнулась Добряна. — И думали: этот Ардагаст должен быть матёрый муж, сильнее и лютее медведя, грозный, как сам Перун. А ты — совсем молодой и... добрый, будто само Солнце.
Только тут Ардагаст заметил, что к её мечу привязана свеча и хлеб.
— А вы никак со свадьбы? Не из тех ли молодцов, что сегодня у Гордяты, старейшины из Мглина, дочь увозом забрали?
— Ну, не так уж и увозом, — приосанился Ясень. — Выкуп всё-таки дали, и немалый. Да попробовал бы Гордята не взять! Мы как налетели спозаранку, мглинцы не успели и за рогатины схватиться. А мы им — вина корчагу: хотите — бейтесь, не хотите — пейте. Не всё же волколакам наших девок умыкать. Они тут, на Индриковой поляне, на игрищах, уже сманивали — и почепских, и костинских.