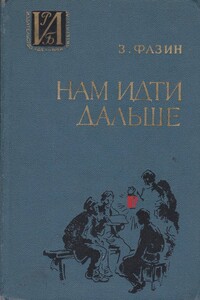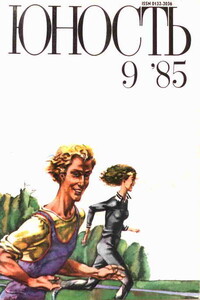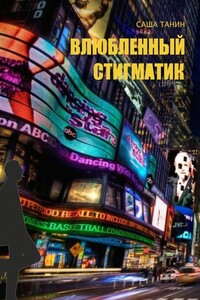Вдалеке послышался звук открываемой двери. Шаги надзирателя в коридоре возникли из небытия тюремных тайн и растворились в ней же. Стукнула вторая дверь. Поворот ключа. Тишина.
Саша вздохнул — дрогнула и качнулась решетчатая тень на стене. Перо повисло над бумагой. Мысли сбились.
Он встал, зябко повел плечами. Семь шагов от дверей до окна. Семь шагов от окна до дверей.
В звуке шаркающих шагов в коридоре ему что-то почудилось, это спутало ход размышлений, остановило руку. Будто прошел по коридору не надзиратель, не один человек, а сразу несколько. Будто прошелестело мимо дверей камеры нечто далекое и забытое, то самое, что осталось за стенами тюрьмы и что уже стало потухать в памяти, вытравляться из прошлого едкой горечью настоящего.
Какие-то разрозненные картины прежней жизни неясно и расплывчато мелькнули в сознании и тут же исчезли. И всплыла на далеком, несуществующем горизонте зыбкая панорама детства — зеленый волжский склон, яблоневые сады, деревянные гармошки лестниц, а наверху — купола соборов, многоглавие церквей, белый дом присутственных мест над обрывом, дворец губернатора, а еще дальше, в конце Дворянского переулка, налево — длинное двухэтажное здание гимназии, в которую он ходил каждый день восемь лет подряд…
И вот он уже видит себя самого — маленького, но очень серьезного, идущего с ранцем за спиной вдоль монастырской стены по Спасской улице. Вот он сворачивает направо, доходит до Большой Саратовской, около магазина Медведева — еще направо и мимо забранных толстыми решетками окон прямо в гостинодворскую сторону.
Вдоль всей Саратовской, начиная от окружного суда, стоят возле керосиновых фонарных столбов подводы, телеги, одноколки. Пахнет лошадьми, сеном, колесной мазью, навозом, дегтем, рогожей. Меж возов, выделяясь чистой господской одеждой среди крестьян и торговых людей, появляются иногда чиновники, духовные. Прицениваются к привезенным товарам, торгуются, расходятся недовольные друг другом.
Иной мужик с загорелым, обветренным лицом долго и снисходительно наблюдает, как брезгливо перебирает барин белыми ручками его кровное добро (теперь товарец-то свой, теперь можно и от себя торговать, теперь — воля). Мужик задергивает поклажу холстиной и кладет сверху заскорузлую, раздавленную работой руку: нет, господин хороший, ни одного рублика невозможно уступить, потому как я самолично поступить так не желаю, потому как гнул ты меня и весь корень мой от века, а теперь я желаю показать тебе свой интерес, а не хошь брать товар по цело, как сказано, — отойди в сторону.
Саша останавливается около магазина Юдина. Сам хозяин с двумя проворными приказчиками юрко суетится перед входом: надо и солидных покупателей (акцизных, помещиков уездных, отцов дьяконов) успеть зазвать, да и мужичков приезжих не прозевать — мужики-то нонешние пошли с копейкой!
Юдин — фирма широкая: от мехов до обоев, от бижутерии до бакалеи. Покупателя — только войди — обратно с пустыми руками не выпустят. Саша мнется. На сэкономленные от завтраков деньги ему нужно купить подарки младшим братьям и сестрам: Володе — книгу, Оле — ленту, Мите — карандаши, Маняше — конфет.
…Семь шагов от окна до дверей.
Семь шагов от дверей до окна.
Лоб прижат к каменной стене камеры. Пальцы стиснуты до боли. Господи, что он наделал, что он наделал! На какие страдания обрек он мать, братьев, сестер! Ведь теперь, после смерти отца, после его ареста они остались беспомощными, беззащитными. От них, родственников цареубийцы, отвернется теперь весь город, все знакомые… Что будет думать о нем, о старшем брате, и его, Сашином, невыполненном долге перед семьей и перед ним самим Володя? А ведь ему кончать в этом году гимназию…
Поздно, поздно теперь уже думать об этом, поздно сожалеть. Надо выполнить до конца то, что он еще в силах сделать. Семье он нанес удар. Непоправимый. И он уже не существует для семьи… Надо продолжить составление программы. Пусть пока она, программа, прозвучит только на суде. Пройдет время, и их мысли, чаяния и надежды, вырванные ветрами революционных бурь из-под хлама судейских протоколов, найдут дорогу к людям.