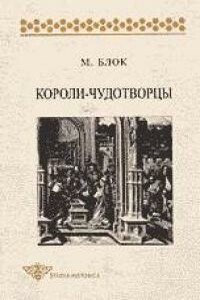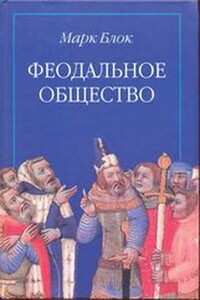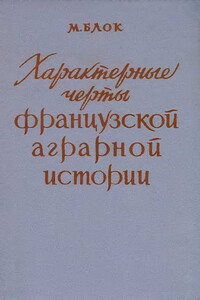Апология истории, или Ремесло историка - страница 52
Иногда исчезновение слова связано с причинами, коренящимися в эволюции языка, а предмет или действие, обозначенные данным словом, нисколько этим не затрагиваются. Ибо лингвистические элементы имеют свой собственный коэффициент сопротивления или гибкости. Установив исчезновение в романских языках латинского глагола emere (покупать. — Ред.) и его замену другими глаголами очень различного происхождения — acheter, comprar и т. д., — один ученый недавно счел возможным сделать отсюда далеко идущие и весьма остроумные выводы о переменах, которые в обществах — наследниках Рима — преобразили систему торгового обмена. Сколько возникло бы вопросов, если бы этот бесспорный факт можно было рассматривать как факт изолированный! Но ведь в языках, вышедших из латинского, утрата слишком коротких слов была самым обычным явлением — безударные слоги ослаблялись настолько, что слова становились невнятными. Это явление чисто фонетического порядка, и забавно, что факт из истории произношения мог быть ошибочно истолкован как черта истории экономики.
В других случаях установлению или сохранению единообразного словаря мешают социальные условия. В сильно раздробленных обществах, вроде нашего средневекового, часто бывало, что учреждения вполне идентичные обозначались в разных местах разными словами. И в наши дни сельские говоры заметно различаются меж собой в наименованиях самых обычных предметов и общепринятых обычаев. В центральных провинциях, где я пишу эти строки, словом «деревня» (village) называют то, что на севере обозначают, как hameau, северную же village здесь именуют bourg. Эти расхождения слов сами по себе представляют факты, достойные внимания. Но, приспосабливая к ним свою терминологию, историк не только сделал бы малопонятным изложение — ему пришлось бы отказаться от всякой классификации, а она для него — первостепенная задача.
В отличие от математики или химии наша наука не располагает системой символов, не связанной с каким-либо национальным языком. Историк говорит только словами, а значит, словами своей страны. Но когда он имеет дело с реальностями, выраженными на иностранном языке, он вынужден сделать перевод. Тут нет серьезных препятствий, пока слова относятся к обычным предметам или действиям, — эта ходовая монета словаря легко обменивается по паритету. Но как только перед нами учреждения, верования, обычаи, более глубоко вросшие в жизнь данного общества, переложение на другой язык, созданный по образу иного общества, становится весьма опасным предприятием. Ибо, выбирая эквивалент, мы тем самым предполагаем сходство.
Так неужели же нам надо с отчаяния просто сохранить оригинальный термин — при условии, что мы его объясним? Конечно, порой это приходится делать. Когда в 1919 г. мы увидели, что в Веймарской конституции>23 сохраняется для германского государства его прежнее наименование Reich, многие наши публицисты возмутились: «Странная „республика“! Она упорно называет себя „империей“!». Но дело здесь не только в том, что слово Reich само по себе не вызывает мыслей об императоре; оно связано с образами политической истории, постоянно колебавшейся между партикуляризмом и единством, а потому звучит слишком специфически по-немецки, чтобы можно было перевести его на другой язык, где отражено совсем иное национальное прошлое.