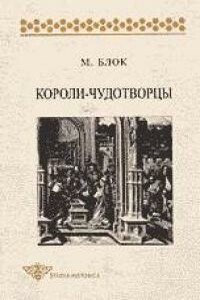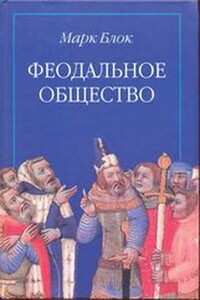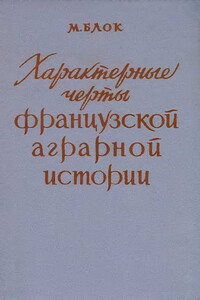Если оба рассказа выдают себя за непосредственное описание действительности, по крайней мере один из них лжет.
Представьте себе еще, что на двух древних памятниках из камня высечены два военных эпизода. Они относятся к двум разным походам, но изображены почти в одинаковых чертах. Археолог скажет: «Один из двух художников наверняка обокрал другого, если только они оба не довольствовались воспроизведением какого-то общепринятого шаблона». Неважно, что две эти стычки отделены лишь коротким промежутком времени или что в них сражались те же народы — египтяне против хеттов, ассирийцы против эламитов. Нас возмущает сама мысль, что, при бесконечном разнообразии человеческих поз, для изображения двух различных событий, совершившихся в разное время, выбраны одни и те же жесты. В качестве свидетельства о ратных подвигах, на что эти картины претендуют, по крайней мере одна из них, если не обе, безусловно, подделка.
Так критика движется между двумя крайностями — сходством подтверждающим и сходством опровергающим. Дело в том, что возможность случайного совпадения имеет свои пределы и ткань социального единообразия не так уж ровна и гладка. Иными словами, мы полагаем, что в мире и в данном обществе единообразие достаточно велико, чтобы исключить возможность слишком резких отклонений. Но это единообразие, как мы его представляем себе, определяется чертами весьма обобщенными. Оно предполагает, думаем мы, и в какой-то мере охватывает — стоит лишь углубиться в факты действительности — число возможных комбинаций, слишком близкое к бесконечности, чтобы можно было допустить их ненарочитое повторение: для этого необходим сознательный акт подражания. Хотя в конечном счете критика свидетельства все же основана на инстинктивной метафизике подобного и различного, единичного и множественного.
* * *
Когда у нас возникло предположение о том, что перед нами копия, нам остается определить направление влияния. Надо ли считать, что в каждой паре документов оба исходят из одного общего источника? А если предположить, что один из них подлинный, то который из двух достоин этого звания? Иногда ответ подсказывают внешние критерии, например датировка обоих документов, если ее можно установить. Если же этого подспорья нет, вступает в свои права психологический анализ, опирающийся на более глубокие, внутренние особенности, присущие самому предмету или тексту.
Естественно, что такой анализ не подчиняется механическим правилам. Надо ли, например, как делают некоторые эрудиты, руководствоваться тем принципом, что при последующих обработках текста в него вносятся все новые выдумки? Тогда текст наиболее сжатый и наименее неправдоподобный всегда будет иметь шанс, что его признают самым древним. Порой это верно. Мы видим, что от одной надписи к другой число врагов, павших в бою с тем или иным ассирийским царем, непомерно возрастает. Но случается, что этот принцип изменяет. Самое баснословное описание «страстей» святого Георгия>46 — как раз первое по времени; в дальнейшем, принимаясь за обработку старинного рассказа, его редакторы устраняли одну деталь за другой, шокированные их невероятной фантастичностью. Есть много способов подражания. Они зависят от характера индивидуума, а порой — от условностей, принятых целым поколением. Как и любую другую интеллектуальную позицию, их нельзя предвидеть заранее, ссылаясь на то, что нам, мол, они кажутся «естественными».
К счастью, плагиаторы нередко выдают себя своими промахами. В случае, если они не поняли текста, послужившего им образцом, их бессмыслица изобличает их мошенничество. Если же они пытаются замаскировать свои заимствования, их губит примитивность уловок. Я знал одного гимназиста, который на уроке, не сводя глаз с тетрадки соседа, старательно списывал его сочинение фразу за фразой, только переиначивая их. С большой последовательностью он делал подлежащее дополнением, а действительной залог менял на страдательный. Разумеется, он лишь дал учителю превосходный образец для применения исторической критики.
Разоблачить подражание там, где, как нам кажется, у нас есть два или три свидетеля, значит оставить из них лишь одного. Два современника Марбо, граф де Сегюр