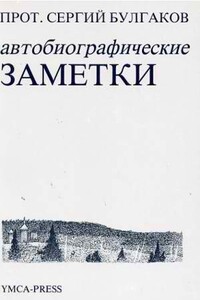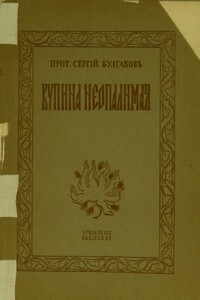История человекосообразна лишь в том смысле, что она дает простор человеческой активности и телеологии, и в этом смысле история делается людьми, точнее сказать, при их участии, которое становится таким образом космическим фактором, входит в общий космический миропорядок. Но при этом и личная воля отдельного лица, и совокупное творчество человечества находят внешнюю границу в объективно детерминированном, по существу своему таинственном и иррациональном ходе вещей. "В это время пришли некоторые и рассказали Ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам... или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам..." (Лк. XIII, 1-4). И когда Тот, Который по Божественному естеству есть Логос мира, в человеческой муке гефсиманского истощания как человек, как индивидуальность, следовательно, как часть всего молился об избавлении от чаши, то, противопоставляя свою частную человеческую волю благой, универсальной и непостижимой для обособляющегося сознания воле Отца, прибавляет: "впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет" (Лк. XXII, 42). Человеческая воля и божественная несоизмеримы, как целое и обособляющаяся часть, ставящая себя в качестве целого. А потому и пути человечески предначертываемой истории и пути руководимой Высшею Силою эсхатологии не тождественны. Другими словами, хилиазм и эсхатология не адекватны и не соизмеримы, принадлежат к разным религиозно-метафизическим плоскостям (потому так резко и подчеркивается в Евангелиях видимая независимость одного от другого: "день тот" придет, когда никто не ожидает, когда все чувствуют себя особенно обеспеченно и спокойно занимаются обыденными делами, женятся, покупают, как во дни Ноевы...). Иудейская апокалиптика, напротив, фактически признала эту соизмеримость, и хилиазм включила в подробности эсхатологии. Но тогда оказалась возможность и даже необходимость мыслить цели исторические или хилиастические достижимыми средствами эсхатологическими, т. е. при участии сверхчеловеческих сил, как deus ex machina, и эсхатологические образы стали наполняться человеческим, слишком человеческим содержанием. Появилось напряженное и роковое для Иудеи ожидание исторического чуда, сверхъестественной помощи для целей политических, национальных, экономических. На этом фоне развивается иудейский мессианизм со всей противоречивой сложностью своих представлений.
В представлении о мессии, как в центральном узле скрещиваются различные ходы апокалиптической мысли, и оно одновременно принадлежит всем разным планам, смешанным воедино иудейской апокалиптикой. Мессия, иногда личный, иногда коллективный образ иудейского народа (особенно в позднейшем иудаизме), иногда человек, земной царь, иногда существо божественное и сверхмирное, иногда смертный (III Эздра), иногда бессмертный, входит в различные представления, принадлежит к различным эсхатологическим рядам. Он освобождает свой народ, наказывает - иногда жестоко - врагов его и установляет земное царство с Иерусалимом в качестве столицы. Но он же присутствует при воскресении мертвых и участвует в страшном суде в качестве судьи уже после окончания этого эона. В том напряженном ожидании нового эона, которым живет апокалиптика, мессия играл роль живого моста, соединяющего оба эона и переводящего за собою мир из старого эона в новый. Это смешение нескольких перспектив сказывается во множестве частностей, дробится в крупных и мелких подробностях и может быть прослежено лишь при детальном исследовании подлежащих памятников[37]. Мы остановимся только на самых крупных и основных штрихах.
IV. МЕССИАНСКОЕ ЦАРСТВО
Апокалиптика с ее живой образностью и необузданной фантастикой не обещает, конечно, ясности философских различений. Граница, отделяющая историческое от эсхатологического, то совершенно стирается, то углубляется до непроходимости, а то настолько расширяется, что дает место еще особому переходному состоянию, вполне не принадлежащему ни к той, ни к другой области, тысячелетнему царству мессии, так называемому хилиазму в собственном смысле слова. Ввиду того, что большинство апокалипсисов составлялось из разных фрагментов и в разные времена, все эти три возможности осуществляются иногда в пределах даже одного апокалипсиса (таков, наприм., эфиопский Енох), отчасти III Эздра). Поэтому систематическая разработка этого материала может вестись исторически, применительно к отдельным памятникам, или же классификаторски, путем каталогизации отдельных суждений по установленным рубрикам. Мы ограничимся лишь несколькими наиболее яркими примерами, которые вместе с тем представляют и наибольший религиозно-философский интерес. Изображение мессии как национального вождя и освободителя, а вместе с тем и озаренного светом божественной правды мы находим в "Псалмах Соломоновых", именно в 17-м псалме, классическом памятнике иудейского мессианизма. Сначала в нем изображается бедственное состояние Израиля как наказание за грех его, во второй части дается выражение мессианских надежд