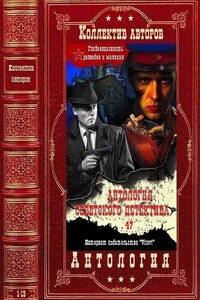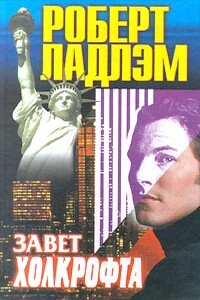— Вот и хорошо! — решил Василий Иринин, — Этот гад обязательно будет разглядывать нас во все щели. А никого из нас он в лицо не знает. Наша группа — новая, провокаторам еще не ведома!
— Группа–то новая, — обронил с передка Петро, — нос дисциплиной слабо. Шутка ли — без приказа ехать!
— Ничего, — подбодрил Василий. — А вдруг тот гад не один, а другой гад его упредит? Это сколько же наших людей еще погибнет!
Жил Харченко скромно, на околице, где пыльная улица Долгая выходила в степь, к горизонту. Неслышно катились колеса по пушистой темной пыли. Фаэтон остановился в густой тени затихших на ночь деревьев. Василий й Федор упруго и легко соскочили на землю. Открыли калитку и направились к хате, белевшей сквозь густоту старых, толстокорых черешен. Постучали в небольшое оконце в белой стене, разрисованной розами. Заскрипела форточка, и из хаты послышался сонный женский голос:
— Кого это носит в такое позднее время?
— Свои! Открывай! — вполголоса ответил Иринин, — Хозяин дома?
— Где ж ему быть? — женщина, кажется, даже зевнула, — Сейчас я его, сонную тетерю, подниму. Подождите минутку…
И в самом деле, не прошло двух — трех минут, как на пороге встал сам хозяин. Внимательно вглядывался в прибывших и неторопливо заправлял за ремешок черных штанов косоворотку.
— Чем могу служить, господа?
— Почему так долго не открывали? В доме кто–нибудь болен? — вражеским паролем ответил Иринин.
— Больных нет, уже выздоровели.
«Вот и признался, гад!..»
— Быстро одевайтесь, поедете с нами, господин Харченко. Есть серьезное дело… Сколько вам нужно на сборы?
— А что тут одеваться? — лениво отозвался Харченко. — Сапоги на ноги и картуз на голову… Оружие брать?
— Обязательно! Какое у вас?
— Наган…
Через минуту все трое уселись в фаэтон. Иван Харченко посредине — между Василием и Федором. Варя ежилась, стискивая карабин, сдерживая дыхание, боясь пропустить хоть словечко. Ее тогда впервые в жизни поразил до глубины души человеческий цинизм, подлая торговля из–под полы чужой судьбой, чужим счастьем и будущим, торговля, в которой живые люди — лишь «мертвый капитал». Жизнь, неповторимая человеческая жизнь, — только «товар» в двойной игре тор–говца — предателя… Слова стоят рядом: продажа — продавшийся — продажная шкура…
Она ежилась в грубой и жесткой солдатской шинели, молодая женщина, которую черная измена лишила счастья, любви и материнства, ежилась, вся пропитанная ненавистью, от чего дрожала каждая клеточка ее тела, и боялась даже обернуться, чтобы не опалить Харченко неумолимым, как приговор, взглядом.
— Господин Харченко, — говорил Иринин, — мы к вам, собственно, от Боровского. Сам он приехать не смог — дела…
— Понимаю. Да, да, он говорил мне, что должен ехать в командировку в Ростов, — согласно закивал Харченко.
— Ну что ж, тем лучше. Значит, большевик Чаус с его «пятеркой» ваша заслуга? — спросил Василий и сразу же доброжелательно добавил: — Хорошая работа, чистая.
— Не совсем чистенько вышло… Узнали меня. Пришлось немедленно расстрелять, чтобы, упаси боже, не сообщили другим… Повезло большевичкам — избежали пыток! Вообще–то приходится работать очень аккуратно, чтобы не возникло и малейшего подозрения у слишком бдительных товаришочков. Поэтому и жить вы нужден, как нищий, в развалюхе на околице. Как вся голытьба… Будь она неладна!
— Кажется, вы и сами в большевичках ходите?
— Что поделаешь? Но я же их всех как облупленных знаю, никакая конспирация их не спасет, всем обеспечу одну дорожку — на виселицу. Скоро, ой скоро, господа, все мы окончательно освободимся от босоногой голытьбы, которая на достаток зажиточных людей заглядывается… Я считаю так: что мое — то мое.
— И много загребла у вас голытьба?
— Достаточно, чтобы не забыть… Отец в Луганске имел хоть и небольшой, но кирпичный заводик — верное дело, строительный материал всегда нужен. Меня готовил себе на смену и гонял по всему производству, чтобы я своими собственными руками мог выпекать кирпич, как пряники. Руки у меня в мозолях… Вот и говорю теперь «товаришочкам»: «Я — весь ваш, я — пролетарий!»
I — И кто же вы, господин Харченко, по политическим убеждениям? Монархист, анархист, эсер?