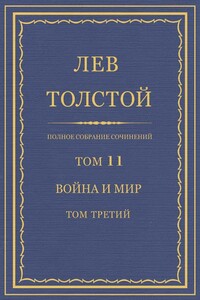Вскоре из комнаты вышли Стива и Долли. Их роботы шумно катились позади, словно малые дети. Кити и Анна поняли, что примирение состоялось. Весь вечер, как всегда, Долли была слегка насмешлива по отношению к мужу, а Степан Аркадьич доволен и весел, но настолько, чтобы не показать, что он, будучи прощен, забыл свою вину.
В половине десятого особенно радостная и приятная вечерняя семейная беседа за чайным столом у Облонских была нарушена самым, по-видимому, простым событием. Но это простое событие почему-то всем показалось странным. Анна захотела показать свои Воспоминания о сыне Сереже на мониторе Андроида, но прежде нужно было его отполировать до блеска. Она встала и своею легкою, решительною походкой пошла наверх в свою комнату за бархоткой, которую держала в саквояже.
Лестница наверх, в ее комнату, выходила на площадку большой входной теплой лестницы. В то время как она выходила из гостиной, в передней послышался I/Дверной звонок/6.
— Кто это может быть? — сказала Долли.
— За мной рано, а еще кому-нибудь поздно, — заметила Кити.
— Верно, кто-нибудь из Министерства ко мне, — прибавил Степан Аркадьич. Когда Анна проходила мимо лестницы, робот II класса торопился наверх, чтобы доложить о приехавшем, а сам приехавший стоял у лампы. Анна, взглянув вниз, узнала тотчас же Вронского — потрескивание огненного кнута и очертания двух испепелителей развеивали последние сомнения.
Странное чувство удовольствия и вместе страха чего-то вдруг шевельнулось у нее в сердце. Взглянув на Вронского, она невольно вспомнила ужасающий взрыв, который прогремел в небе над Антигравистанцией.
Он стоял, не снимая своего поблескивающего серебристого пальто, и что-то доставал из кармана. В ту минуту, как она поравнялась с серединой лестницы, он поднял глаза, увидал ее, и в выражении его лица сделалось что-то пристыженное и испуганное. Она, слегка наклонив голову, прошла, а вслед за ней послышался громкий голос Степана Аркадьича, звавшего его войти, и негромкий, мягкий и спокойный голос отказывавшегося Вронского.
Когда Анна вернулась в гостиную, его уже не было, и Степан Аркадьич рассказывал, что он заезжал узнать об обеде, который они завтра давали.
— И ни за что не хотел войти. Какой-то он странный, — прибавил Степан Аркадьич.
Кити покраснела. Она думала, что она одна поняла, зачем он приезжал и отчего не вошел. «Он был у нас, — думала она, — и не застал и подумал, я здесь; но не вошел, оттого что думал — поздно, и Анна здесь».
Все переглянулись, ничего не сказав, и стали смотреть на монитор Андроида Карениной, на котором одно за другим проплывали Воспоминания матери о ее красивом маленьком сыне.
Бал только что начался, когда Кити с матерью вошла на большую, уставленную цветами и II/Лакеями/74 в красных кафтанах, залитую светом лестницу. Стоя на верхней площадке лестницы и держась за перила, они с нетерпением ждали сигнала, который должен был оповестить о том, что потоки воздуха начинают поступать из труб, скрытых за полом и за стенами. И едва прозвучали первые такты вальса, мать и дочь пружинисто оттолкнулись от пола и, поймав поток воздуха, закружились в вальсе над залой. Безбородый юноша, один из тех светских юношей, которых старый князь Щербацкий называл тютьками, в чрезвычайно открытом жилете, оправляя на ходу белый галстук, помахал им, неуклюже проплывая мимо на воздушном облаке, но поменял направление и неловко вернулся, приглашая Кити на кадриль. Первая кадриль была уж отдана Вронскому, она должна была отдать этому юноше вторую. Он поклонился и, поймав следующий поток воздуха, поплыл дальше, поглаживая усики и любуясь на розовую Кити.
Несмотря на то, что туалет, прическа и все приготовления к балу стоили Кити больших трудов и соображений, она теперь, в своем сложном тюлевом платье на розовом чехле, вплыла в зал так свободно и просто, как будто все эти розетки, кружева, все подробности туалета не стоили ей и ее домашним ни минуты внимания, как будто она родилась в этом тюле, кружевах, кружась в танце, порхая то вверх, то вниз, с этою высокою прической, с розой и двумя листками наверху.