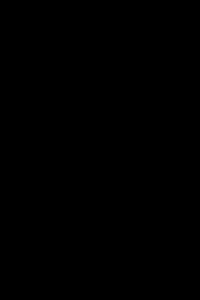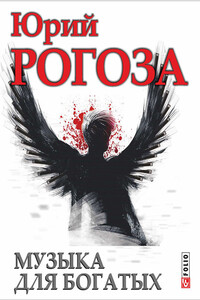Ник понимал, что торгует баба гадостью несусветной, но рот сам собой наполнился слюной.
«Ну, вот, — отметил Ник. — Совсем городской стал, пирожков хочется… Давно не травился.»
Он приказал себе забыть обо всем и сосредоточиться на окружающем.
И сразу, словно кто-то всесильный выключил звук: Ник рассматривал безмолвную сутолоку людей, стремясь в бестолковости обнаружить организующее движение. Надо было просто ждать и смотреть по сторонам.
* * *
Мухин сидел за своим столом в кабинете, который делил еще с тремя следователями, и смотрел в окно.
За окном слегка начинало вечереть, солнце уже било косо, подчеркивая редкие лепные украшения на доме напротив, фактурно подсвечивая деревца на бульваре, пряча в тенек грязь на тротуарах.
Мухин любил это освещение. Он просто смотрел в окно и ни о чем не думал. Надо было писать очередной рапорт, но терять эти короткие минуты затишья не хотелось. Соседние столы пустовали, в комнате стояла непривычная тишина. И даже по коридору никто не топал сапогами, не матерился с задержанными… Природа в этот час, даже преступная ее часть, казалось, отдыхает.
Мухин на время даже перестал быть Железякой. Он довольно печально и неторопливо думал о том, что вот опять остался один, а значит питаться придется всухомятку до тех пор, пока кто-нибудь из старых знакомых не позовет в гости.
Специальных праздников в ближайшее время не предвиделось. Квартиры тоже никто не получал. «Может, день рождения у кого?» — вяло подумал Железяка. Единственная возможность заманить к себе хоть какую-то особь противоположного пола была связана с гостями. На улицах Железяка знакомиться не умел, да и не любил. По ресторанам ходил редко и там знакомиться опасался, четко представляя себе контингент возможных девушек.
Нет, оставались только гости. Все его знакомые уже давно были женаты, у некоторых проклюнулись дети. Но у жен всегда находились незамужние подружки, которые поначалу непременно клевали на такую романтическую профессию, как следователь. Еще им нравилось, что он так одинок и неухожен. Как натуральные «русские женщины», вне зависимости от национальности, они хотели немедленно отправиться за гипотетическим мужем в Сибирь и там страдать, не просто так, а со смыслом.
«Снимались» эти девушки на раз, как зачарованные мыши за гаммельнским крысоловом брели за Железякой в его квартиру, безропотно отдавались и уже утром начинали убираться и стирать.
Все в них, болезных, было хорошо. Только не хватало им терпения. То есть терпение у них конечно было, но не безграничное. И стоило какому-нибудь придурку на резонный вопрос Железяки «Кто там?» начать стрелять через дверь, как они спадали с лица и через некоторое время под благовидным предлогом куда-нибудь исчезали.
И напрасно он пытался объяснить им, что дверь деревянная только со стороны подъезда, а изнутри обита стальным листом в восемь миллиметров толщиной — прострелить его только из гранатомета можно. То ли не верили, то ли боялись гранатомета.
Девушек его, кстати, уголовники не трогали. Только раз, года четыре назад один блатной по кличке Козырь попытался объехать его на козе. Его ребята подстерегли очередную Железякину подружку и, увезя на дачу, позвонили, потребовали отпустить одного из своих, — тот попался по случайности и сидел в КПЗ.
Железяка тогда в переговоры, не вступил, быстренько махнул в тюрьму и, не стесняясь, так уделал задержанного в камере, что тот через час выложил все — и где могут быть, и сколько может быть.
Опергруппы под рукой не было, и Железяка отправился на дачку один. Зашел, как выяснилось, удачно. Под горячую руку пристрелил он тогда четверых вместе с самим Козырем. Арестовал одного. Там все были пьяноваты, а этот даже не проснулся во время пальбы.
Тогда, помнится, его первый раз собирались выгонять из органов, но вступились знакомые, дело спустили на тормозах и из всего приключения неожиданно вышло повышение., по службе, поскольку дело представили так, будто Железяка в одиночку обезвредил преступное формирование.
Тем более, что про девушку стойко молчали все оставшиеся в живых участники приключения. И хотя все знали об истинных причинах, протоколы были чисты, как стакан «Боржоми».