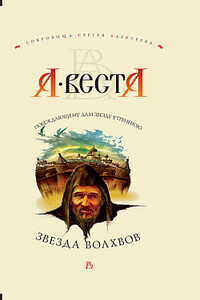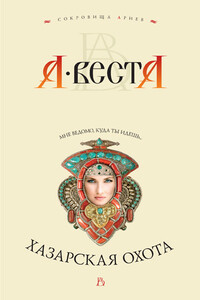Дрова в печном устье чадили и потрескивали, и по избушке скакали багровые всполохи. Затаив дыхание, Северьян слушал ночную тишину – вроде как почудился ему треск в сугробе? На печи неровно и жарко дышал беглый, сон его, неглубокий и чуткий, тревожил Северьяна. Оглянувшись еще раз на печь, он достал из-под грубо сколоченной столешницы березовый свиток – Данилову хартию, на ней угольным карандашом был выведен путь до Шайтан-горы.
Шайтанкой гору прозвали не зря. Неглубокие печоры и подземные ходы, ведущие с поверхности, заканчивались тупиками, но в верховой тайге, верстах в трех от горы, стояла на гривке каменная баба с широкими раскинутыми в стороны ладонями, похожая на крест. Откуда она взялась в безлюдных краях, никто не ведал, тунгусы говорили о богатырях, давно покинувших этот край, а русские старатели прозвали каменную бабу Матерой. У подножия Матеры и был настоящий вход в пещеры.
Снаружи брякнула ставня, и на заиндевелое окно набежала густая черная тень. Кто-то шумно ткнулся в дверь и, нащупав скобу, потянул на себя.
– С нами крестна сила! – Северьян укрыл хартию на груди и схватился за рогатину: когда обустраивался на ночлег, поставил поближе, на случай, если к камельку нагрянет косматый Хозяин. Из распахнутой двери повалил морозный пар, и вошел в избушку великан в мохнатой шубе до пят. Встал, подпер шапкой матицу, стукнул посохом и повел речь по писаному.
– Мир вашему дому, дозвольте переночевать, – произнес чуть нараспев.
– Ночуй, Бог в помощь… – опешив от вежливой речи, ответил Северьян.
– У Бога дорог много, – в лад ему отозвался ночной гость. – Выбирай любую…
– Гладко стружишь, а стружка кудревата, – недобро заметил Северьян.
– Рыбак рыбака видит издалека. – Ночной гость не лез в карман за новым присловьем. – Земной поклон, – произнес он как бы между прочим и земно поклонился хозяину избушки, но Северьян понял тайное слово по-своему.
Он засветил лучину, исподтишка разглядывая ночного гостя. Богатая шуба из тобольских енотов и крутая, как пасхальный кулич, шапка – в пору купцу-краснояру или горному заводчику. И только посох с резным верхом из моржовой кости и крестиком-кукишем на вершине говорил о том, что гость не простой – духовного звания, посланник какой-нибудь диковинной веры или толка, – и Северьян поспешил забросить новый крючок к знакомству:
– Откель будешь, гостик? Из наших мест али из-за Камня?
– С Кудым-Оша иду, – отозвался полуночный гость.
Он скинул шубу и шапку, и странный запах разлился по избушке от его оттаявшей бороды, точно вешними фиалками запахло.
Северьян крепче перехватил древко рогатины и притулил за спиной, но вслух сказал:
– Добро, поживи с наше да пожуй каши…
Гость усмехнулся, сел за стол и съел ложку-другую остывшей каши.
– Ну что, убедился, живой я, человек Божий, кожей обшит…
– Теперь вижу, – нехотя согласился Северьян. – Ох, смотри, отказался бы ты есть – тогда точно кромешник!
Кому, как не Северьяну знать, что с Кудымского перевала еще никто не приходил, по тем долам люди не ходят, звери не бродят, ядовитые руды в горах лежат и тихой смертью гасят всякого, кто коснется каменной груди богатыря Кудым-Оша. Только тунгусы, таежные цыгане, знают окольные тропы и два раза в год проводят по ущельям своих олешек.
– С самого Питера еду, – похвалился гость, – с Царского Села! Два дня назад с чугунки сошел – и сразу на олешков! Самоеды меня к Енисею доставили и завтра обещали санки прислать.
– Сам-то откель, с каких земель? – мирно спросил Северьян. – По говору ты наш, чалдон…
– Чалдон и есть, а зовут меня старец Григорий.
– Старец, а не стар есть – али чин у тебя такой?
– Каков чин – таков и почин. Давно в миру живу и всякого насмотрелся…
На печке зашелся кашлем беглый.
– Да кто там у тебя? – спросил гость, разглядывая разметавшегося в жару Осипа.
– Артельщик мой и заединищик… Сильного сердца и большой удачи человек, – ответил Северьян. – С виду малохольный, а волков матерых, как кутят, разметал, ты не смотри, что одежонка на нем плохонькая…
– Рубище не спасет, порфира не вознесет, – зевая, заметил старец. – На все нужно знание и опыт… – И замолчал, мудро указуя, что человеческому слову всегда есть предел, молчание же беспредельно…