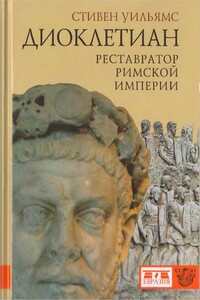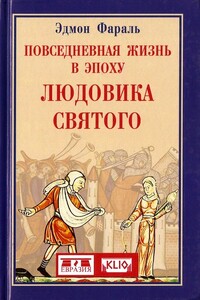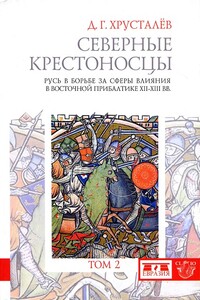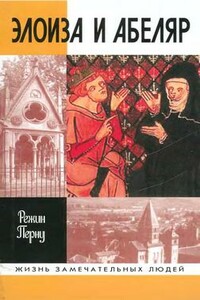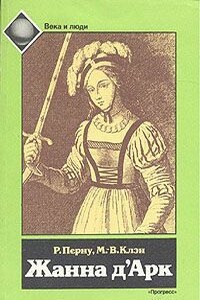Можно представить себе, что по крайней мере некоторые из присутствовавших при этом с тревогой поглядывали в сторону Бернарда Клервоского, спрашивая себя, как-то он отнесется к подобному изобилию золота, драгоценных камней и роскошных литургических облачений, — ведь он с беспримерной суровостью клеймил стремление прелатов к роскоши и дошел до того, что запретил делать цветные витражи в цистерцианских церквях: высшее покаяние для человека его времени! На самом же деле, как бы ни были далеки друг от друга эти два человека — Бернард и Сугерий — между ними царило полное согласие. За двадцать лет до того Сугерий, вняв голосу святого Бернарда, полностью пересмотрел свой образ жизни. В том, что касалось лично его, он повиновался решительному призыву к евангельской бедности, с которым цистерцианец обратился к Церкви своего времени: с тех пор из кельи настоятеля Сен-Дени было изгнано все, кроме распятия, а питался он так же скудно, как любой из монахов. Но всю свою страсть к роскоши он перенес на монастырскую церковь.
И невозможно понять Алиенору, если не учитывать этого фона, неотделимого как от нее самой, так и от ее эпохи: любви к роскоши, заметной везде и во всем, от церквей, сверху донизу украшенных росписями и озаренных огнями тысяч свечей, играющими на драгоценных крестах, до рыцарских романов, в которых герои в сверкающих доспехах вступали в невероятные битвы и предавались ослепительным грезам. Черта эпохи, проявлявшаяся в самых различных формах, от мистики света, которая впоследствии расцветет как в готической архитектуре, так и в серьезнейших философских трактатах, таких, как труды Робера Гроссетеста или святого Бонавентуры, до пристрастия к «gold and glitter», ко всему, что блестит и сверкает, — сказывалась на мышлении того времени, и Алиенора, несомненно, испытала на себе ее влияние, о чем свидетельствуют ее жизнь и ее склонности. Она должна была как нельзя лучше чувствовать себя в обстановке, которую Сугерий воспел в восторженных строках, играя словами, как солнце играло на драгоценных камнях, в изобилии украшавших здание…
Святилище сверкает во всем своем великолепии,
Блистает роскошью
Творение, залитое новым светом.
Праздники уже подходили к концу, когда в монастырской приемной состоялась, наконец, встреча, о которой Алиенора просила Бернарда Клервоского. Удивительная пара: безрассудная королева и святой. Алиенора сияла юной, вполне земной, вполне плотской красотой; о том, что она была красива, и о том, сколь ослепительной была ее красота, свидетельствуют современники, — правда, следуя досадному для нас обычаю того времени, они не оставили нам никаких подробностей на этот счет, удовольствовавшись сообщением, что Алиенора была perpulchra, то есть красота ее выходила за рамки обычного. Можно предположить, что она соответствовала идеалу женской красоты того времени:
Стройное тело, светлые глаза, прекрасное чело, ясное лицо, белокурые волосы, облик смеющийся и ясный…
В XII в. люди были решительно склонны к светлым тонам.
И можно считать, что ей вполне подходит описание, оставленное нам поэтом более позднего времени, Раулем де Суассоном, и вполне исчерпывающее собой средневековый идеал красоты:
У моей Дамы, как, мне кажется,
Веселые светлые глаза, темные брови,
Красивые золотые волосы,
Прекрасный лоб, хорошо посаженный прямой нос,
Кожа цвета лилий и роз,
Алый и нежный рот,
Белая, без всякого загара шея,
Сияющая белизной грудь;
Любезной, приветливой и веселой
Сотворил ее Господь Бог.
И вот теперь перед этой красавицей стоял удивительный человек, о котором, кстати, мы располагаем несколько более подробными сведениями, поскольку святость больше всего привлекала людей того времени, и они старались как можно полнее, ничего не упустив, сохранить память о земной жизни святого. Мы знаем, что Бернард тоже был красив, что в молодости он, как рассказал нам Гильом де Сен-Тьерри, был «более опасен для мира, чем мир для него». Он был высоким, с очень тонкой кожей и рыжими, быстро седеющими волосами. Но к тому времени, как состоялась описываемая встреча (Бернарду тогда уже исполнилось пятьдесят четыре года, он умер четыре года спустя), он полностью преобразился внешне под влиянием внутренней жизни; нечто подобное мы можем видеть, к примеру, на последних фотографиях отца Шарля де Фуко. «Его тело, истощенное постами и добровольными лишениями, его бледность почти лишают материальности его облик». (Вибальд из Ставело) Один из современников сказал о нем: «Это Глас». Духовный жар буквально сжег его плоть, и он, подобно Иоанну Крестителю, обратился в слово. «Один только вид этого человека, — говорили о нем, — убеждал слушателей прежде, чем он успевал открыть рот».