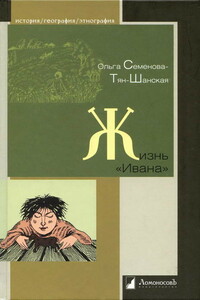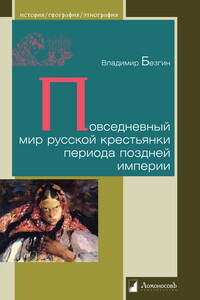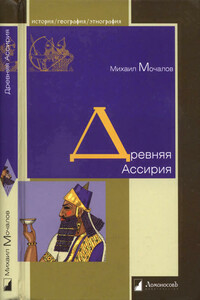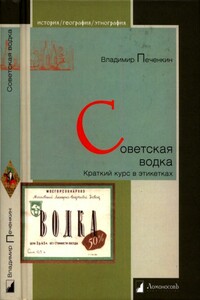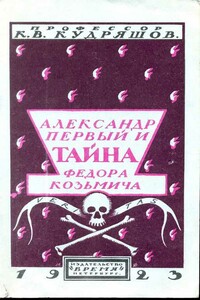Остается рассмотреть главнейший довод в пользу легенды, основанный на протоколе вскрытия, — «самый сенсационный», по выражению одного опытного историка. Барятинский обратился к врачам с просьбой высказаться по поводу протокола вскрытия. Полученные ответы сводились к следующему заключению: протокол составлен не научно, на основании его установить причину болезни нельзя, можно только сделать «сомнительные предположения»; тиф и малярию из причин смерти следует исключить; в протоколе имеются указания на «сомнительные» признаки сифилиса у покойного. На основании этих отзывов специалистов Барятинский делает заключение: так как Александр I сифилисом не страдал, то, значит, вскрытый труп принадлежал другому лицу.
Не считая себя вправе касаться в чем-либо области, мне совершенно чуждой, я счел необходимым также обратиться к специалисту, авторитетному патологоанатому, ректору Петроградского медицинского института, профессору Ф.Я. Чистовичу, в распоряжение которого представил как копию протокола вскрытия, так и известные описания болезни и смерти императора.
Полученный мною ответ заключал следующее:
«Ознакомившись с доставленными мне материалами, относящимися к болезни Александра I, которая закончилась смертью его в Таганроге, я считаю возможным ответить нижеследующим образом на три поставленные мне вопроса:
1) Можно ли из протокола вскрытия выяснить причину смерти Александра? — Нет, нельзя; но есть в протоколе намек на болезненное состояние печени, хотя никаких определенных положительных данных нет.
2) Имеются ли в протоколе безусловные признаки, указывающие на наличность сифилиса? — Нет, никаких таких данных не имеется.
3) Можно ли заключить с достоверностью о характере болезни Александра I, пользуясь, кроме протокола, описаниями его болезни? — С достоверностью нельзя: но с большою долей вероятия можно предположить, что Александр I страдал какой-то инфекционной болезнью, протекающей с желтухою и с нагноительным типом лихорадки (озноб, жар, пот с ремиссиями нормальной t°); такими болезнями могут быть: инфекционная желтуха, гнойное воспаление желчных путей (ангиохолит) или паратифозная септикопиэмия, схожая с той, которая изучена недавно, как осложнение возвратного тифа. Если бы при вскрытии тела была подробнее описана печень, то из трех вышеупомянутых предположений можно было бы точнее выделить характер болезни, сведшей Александра I в могилу.
Петроград. 20 января 1923 г.
Проф. Ф. Чистович».
Итак, никаких безусловных признаков сифилиса не имеется, и хотя болезнь Александра — не тиф и не малярия, но тем не менее может быть определена «с большой долей вероятия». Иными словами, протокол вскрытия нисколько не противоречит утверждению, что вскрыто было тело именно императора Александра 1.Таким образом, падает и «самый веский» аргумент в защиту легенды об Александре.
Глава VI. «Записки» Хромова
Остается дать оценку «Запискам» Хромова и рассказам о Федоре Козьмиче. Старец жил на заимке у Хромова с конца 1858 года и до своей смерти. Ревностный почитатель старца, Хромов, составил любопытные «Записки» о его жизни, которые легли в основу всех сказаний и легенд о таинственном старце. Беглый анализ «Записок» выясняет, что начаты они и в существенной своей части написаны в 1864 году; затем Хромов продолжал их из года в год, с перерывами, записывая и то, что с ним самим случилось, и то, что ему вспоминалось о старце из прошлого. Есть следы того, что он просматривал написанное и по крайней мере два раза вносил незначительные поправки. Таким образом, под наиболее свежим впечатлением занесены только события 1863 и 1864 годов из жизни старца.
Пользоваться «Записками» надлежит очень осторожно и доверять их сведениям нельзя. Хромов в своих «Записках» задается целью убедить читателя в святости и праведной жизни Федора Козьмича; неудивительно, что из 105 параграфов «Записок» более половины их (61) посвящены описанию чудес и прозорливости старца, при крайней скудости данных о личности самого Козьмича. Так, говорится о чудесном благоухании в келье старца и от его вещей, портрета, губки, коей обмывали его мертвое тело, от его могилы и т. д. По ночам в запертой келье появлялся таинственный свет, огонь, горящая свеча, слышалось пение. Однажды (еще при жизни старца) видели, как будто отверзлось небо над его кельей и «воссиял необыкновенный свет». Некая Фекла уверяла Хромова, что в церкви она видела, как у старца сделалось «необыкновенно светлое» лицо и лучи от него осветили всю церковь, и т. д.