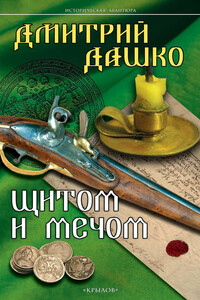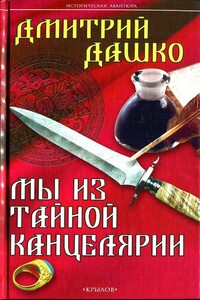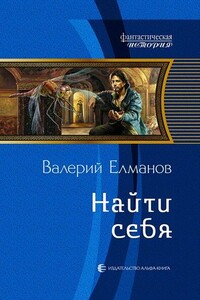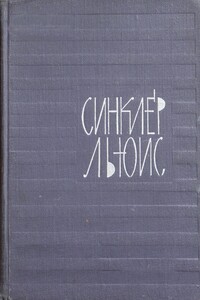— Лишь бы все хорошо было, — заявил он. — А уж в патриарший сан я вас возведу сразу после прибытия императора в город.
— А как же прочие патриархи? — обрадовался, но в то же время удивился владыка Мефодий.
— Я так полагаю, что достаточно их согласия и благословения, которое они уже прислали, — ответил Герман.
Вот тут Любим заколебался. Что важнее — остаться, дабы присмотреть за тем, чтобы никто ничего не подсыпал в кубки или еду, или сопровождать владыку Мефодия в храм? Наконец решив, что еда с питьем важнее, он вызвал еще двух дружинников и перепоручил им сопровождать владыку Мефодия, куда бы он ни пошел.
Он еще инструктировал обоих парней, когда Герман бросил короткий, но очень выразительный взгляд на приземистого служку с туповатым выражением одутловатого лица. В ответ тот молитвенно сложил руки перед грудью и слегка склонился в понимающем поклоне.
Для того чтобы перейти из Магнавры в Святую Софию, было вовсе не обязательно выходить из дворца и пересекать Августеон. Туда вели специальные двухэтажные переходы, через которые любой человек мог попасть сразу в катихумены — галереи, расположенные на втором этаже храма. На них размещался и мутаторий, в котором во время торжественных богослужений находился сам император.
Когда все вышли из палаты, Любим выбрал себе кресло поудобнее и уселся в него, настроившись на долгое ожидание. И стол, и его содержимое было на виду, к тому же в помещении он оставался один, а дверь, ведущая в храм Святой Софии, находилась как раз напротив, так что незамеченным через нее никто бы не прошел.
Однако не прошло и десяти минут, как большая мозаичная картина с изображением мученика Пантелеймона подалась назад, образовав в стене небольшую щель. Затем щель расширилась, открывая проход в какой-то узкий темный коридорчик. Тотчас же из него в комнату бесшумно выскользнул приземистый служка с одутловатым лицом.
Любим еще продолжал мечтать, как он появится перед Берестянкой, и размышлял о том, что бы такое сказать ей, чтобы она ему поверила, когда чья-то потная рука резко запрокинула его подбородок, и острое жало тонкого венецианского стилета вошло дружиннику аккуратно в сердце.
Он еще успел увидеть березку, только почему-то срубленную, и поздняя догадка обожгла его сердце непереносимой болью… Или все-таки это была ледяная сталь клинка, которую ловко провернула чья-то безжалостная рука? Кто ведает…
Служка неторопливо обошел кресло и несколько мгновений, склонив голову, молча смотрел на мертвого Любима. Потом, будто очнувшись от оцепенения, он подошел к столу, высыпал в кубок константинопольского патриарха какой-то белый порошок, слегка взболтал его и вновь подошел к креслу.
Неторопливо вытащив из груди дружинника стилет, служка деловито и аккуратно вытер его о синие штаны русича и, задрав старенькую заношенную рясу, сунул стилет обратно в ножны, прикрепленные к левой лодыжке. Затем он слегка приподнял неподвижное тело, без видимых усилий взвалил его себе на плечо и направился обратно к изображению мученика Пантелеймона. Едва он шагнул в узкий коридорчик, как мозаичная картина начала сближаться со стеной.
Пришедшие из храма Герман, Мефодий и люди, которые их сопровождали, застали пустую комнату, в которой все по-прежнему находилось на своих местах, вот только никого в ней не было.
— А где же Любим? — удивился владыка Мефодий, изумленно оглядывая все вокруг.
— Наверное, вышел куда-то, а может, вызвал его кто-нибудь, — предположил Герман и пренебрежительно махнул рукой. — Да появится он, куда ему деться.
— И то правда, — засмущался владыка Мефодий. — Чего-то я уж… — Он, не договорив, виновато улыбнулся и жестом отпустил обоих дружинников, заметив им: — Ежели повстречаете его, то пусть он шибко не торопится.
Один дружинник двинулся обратно в свою казарму, расположенную в палатах Халки, а второй, помявшись, предложил:
— Я пожалуй, побуду тут еще немного.
— Да я отсюда все равно никуда не денусь, — начал сердиться Мефодий, но был остановлен патриархом:
— Очевидно, они получили соответствующий приказ от вашего Любима, — заметил он. — Приказ же воину надлежит выполнять. Да и не думаю я, что он в чем-то помешает нашей беседе.