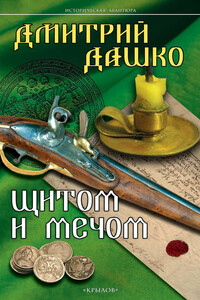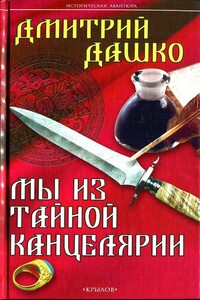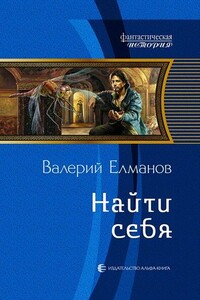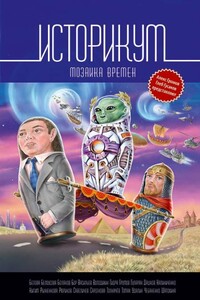Но тут, к счастью, несколько зарвался сам Убейдулла. Утверждая, что перед святым словом и проповедью должны преклонить колени все без исключения, что не может быть неодолимых преград для воинов, несущих истинную веру, новоявленный эмир ал-умара переоценил свои возможности и явно недооценил силы противника.
К тому же он и не подозревал о том, что Вячеслав имеет столь мощную конницу. На виду, перед самими стенами, его люди смогли насчитать лишь сотню всадников, и Убейдулла решил, что все, чем располагают неведомо откуда появившиеся пришельцы, — сто конных и тысячи две пеших воинов. Почти треть пехоты воевода тоже укрыл заблаговременно, так что и об их количестве новоявленный полководец тоже имел неверные данные.
И все-таки как знать, рискнул бы он ввязаться в открытый бой, распахнув настежь северные ворота, или остатки благоразумия помешали бы ему это сделать, если бы не Вячеслав.
Напряженно размышляя, что именно предпринять в такой непростой ситуации, когда враг силен благодаря своей вере, он в одну из ночей пришел к выводу, что, оказывается, — все очень просто. Надо силу противника превратить в его же слабость — и все.
Утром, перед тем как лечь спать после бессонной ночи, Вячеслав вызвал к себе Бачмана, о чем-то долго толковал с ним, затем переговорил со священниками, после чего навестил купца, уже собиравшегося в путь. Вышел он из его шатра не скоро, но зато с приобретениями. За воеводой брели два раба, купленных им у торговца. Оба они были изрядно нагружены мешками и тюками.
А на другое утро, еще до восхода солнца, часовых на стенах взбудоражили крики людей и звон оружия. Встревоженные воины стали вглядываться в даль и увидели печальную картину. Во весь опор к крепости несся небольшой купеческий караван, а русичи преследовали его по пятам. Охранники каравана время от времени оборачивались и пускали в преследователей стрелы, то один, то другой из догонявших падал, но многочисленность погони все равно не давала торговцам шансов на спасение.
Самые горячие головы порывались было помочь единоверцам, но появившийся Убейдулла заявил, что они видят перед собой еще один знак всемогущего. Тем самым он дает понять истинно верующим, что бывает с теми, кто верует неправильно.
Победители тут же принялись вспарывать тюки, рвать друг у друга из рук ткани и прочую добычу, после чего, крайне довольные, отправились обратно в лагерь, грубо подталкивая древками копий своих пленников. Трупы своих товарищей они унесли, оставив валяться на камнях лишь вражеские.
Воевода, наблюдавший не столько за перипетиями боя, сколько за поведением осажденных, разочарованно вздохнул и буркнул себе под нос:
— Ну и в рот вам дышло. Не открыли дверку, так и не надо. Все равно я на это особо не рассчитывал. Ладно. Посмотрим, что вы скажете, когда начнется вторая часть моего Арлезонского балета[164].
В русском лагере тут же началась торжественная церковная служба, очевидно, посвященная легкой победе. Больше всего осажденных возмущало то, что на нее насильно приволокли пленников, поставив их на колени метрах в двадцати перед пятиметровыми крестами, вкопанными в землю. Было их не так уж и много, человек десять, но головы троих из них украшали чалмы зеленого цвета — верный знак того, что эти люди совершили хадж. К тому же в этой кучке имелся и дервиш, что уж совсем никуда не годилось.
С этого дня в лагере начались не просто добросовестные церковные службы. Теперь они не прекращались даже ночью. Оставшаяся при войске дюжина священников честно трудилась аж в четыре смены, читая бесконечные молитвы.
Так длилось три дня, причем с правоверными, присутствовавшими на этих богослужениях, происходили весьма загадочные метаморфозы. Уже на второй день они явились на молитву добровольно. Встать на колени их никто не побуждал, но на третий день они опустились сами, вызвав неодобрительный гул на крепостных стенах Дербента.
Четвертый день не сулил ничего особенного. Все те же гимны в честь неизбежной грядущей победы святого воинства, идущего в бой за правую веру, да молитвы за великих грешников, которым господь отчего-то так и не дает вразумления. А вот потом…