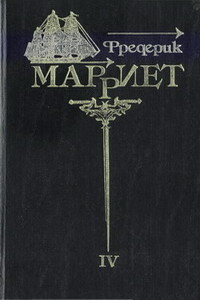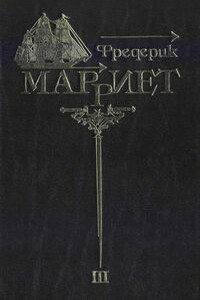— Но как же вам помочь? — спросил вконец обалдевший от пылкого монолога и страстного взгляда Николев.
— Есть способ помочь мне вырваться на свободу, чтобы она уже не могла мной командовать!
Во всей труппе, кажется, только вчерашний гимназист Николев всерьез считал Терскую теткой Танюши. Прочие задавали иные вопросы: кто истинный отец девушки, помогает ли деньгами, даст ли хоть какое приданое. Сама Танюша узнала правду от Эстергази — театральная матрона иногда утешалась мадерой и даже простой водкой, а утешившись, делалась некстати разговорчива. Поэтому Танюша признавала власть Терской над собой, но, поскольку Терская ее не растила, не нянчила, эта власть была номинальной, и повиновение матери, как полагается обычной дочери, все-таки было девушке чуждо. Тем более когда речь шла о деле серьезном — об аэропланах.
И более того — речь шла об истинной славе.
Танюша была-таки честолюбива. Она скоро сообразила, что быть примадонной кокшаровской труппы — невелик почет, что бы из себя ни корчили Терская с Селецкой. Блистать в столице им не дано — и Танюше тоже, если она собирается всю жизнь состоять при Кокшарове. А полеты — это всемирная известность! Это — фотографии во всех газетах! И уж во всяком случае летать Танюша будет не в таких страшных шароварах, как у Зверевой, и не в таких грубых ботинках. В газетах публикуют фотографии первой в мире авиатриссы — баронессы де Ларош, так у нее костюм очень даже изящный, по картинке цвета не понять, но все репортеры пишут — лиловый…
— Что это за способ? — спросил Николев, глядя на девушку с неизъяснимой преданностью.
— Если вы не побоитесь…
— Ради вас!..
Он не любил Танюшу — он только собирался полюбить. Все женщины труппы в его глазах были прекрасны — и роскошная Терская, и изящная Селецкая, и загадочная Генриэтта Полидоро. Эстергази — и та имела особую прелесть, которую Енисеев как-то назвал варварской; и что же? Эта прелесть тоже могла глядеться соблазнительной. Танюша была ближе прочих по возрасту и отношению к жизни. Алеша тоже любил спорт, вот только велосипеда с собой не привез — он был наслышан о прекрасных рижских велосипедах фабрики Лейтнера и собирался на днях сделать эту важную покупку. Он, как и Танюша, был без ума от «Принцессы Грезы», мечтал сыграть роль Бертрана и даже шоколад, названный в честь славной ростановской пьесы, покупал принципиально, хотя от других сортов, с иными названиями, этот совершенно не отличался.
— Ради меня, да, — сказала Танюша, — и я смогла бы оценить ваш благородный поступок, если бы…
— Если бы — что?..
— Если бы вы его совершили!
— Так я же готов!
— Правда?
— Правда!
— И ни разу не пожалеете?..
— Нет, ни разу!
Но она, меняя главный вопрос то так, то этак, добивалась от него этих «да!», «правда!», «конечно!» еще чуть ли не полчаса.
Отродясь у Алешеньки Николева не случалось таких взрослых разговоров с дамами. Он, идя с Танюшей куда-то в сторону Дуббельна, а может, уже и миновав Дуббельн, уже приближаясь чуть ли не к Ассерну, напрочь забыл, что с этой самой девицей в перерывах между репетициями «Елены Прекрасной» лазил через забор, чтобы тайком от взрослых взять у уличного сбитенщика по стакану горячего, сладкого и пряного до такой степени, что продирал не хуже водки, напитка. Про обед он тоже благополучно забыл.
Во всяком случае, дачники пропали, пляж стал пустынным, здания купален сменились уже торчащими из-за дюн камышовыми крышами рыбацких домов, а на самих дюнах сохли на ветру распяленные на кольях сети и лежали на берегу длинные лодки. Пахло дымом — при каждом хуторе имелась обязательная коптильня, и как раз началось время ловли камбалы.
— Госпожа Зверева стала самостоятельной, когда в первый раз вышла замуж, — сказала наконец Танюша. — Родители уже не могли ею командовать, а супруг, говорят, наоборот, одобрял ее увлечение. И всякая девушка, выйдя замуж, уже не должна слушаться родителей.
— Это верно, — согласился Николев. — Нам, мужчинам, легче — если мы покидаем дом, наша репутация не портится, а вот если девушка убежит…
Он сам как раз и сбежал из дому ради всемирной славы.